ТЕМА НОМЕРА
нарративы
читать
читать
читать
читать
читать
читать
дина якушевич: кантата без героя
федор Софронов: интервью с самим собой
иван Нечаев: МУЗЫКА ПОСЛЕ УТОПИИ: ГРУЗИНСКИЕ ФЕСТИВАЛИ КАК ПЛОЩАДКИ НОВЫХ НАРРАТИВОВ
Константин Черкасов: по лабиринтам памяти
Юрий виноградов: ЭКСПРЕССИВНАЯ НЕЭКСПРЕССИВНОСТЬ: КАК ЗВУКИ МОГУТ РАССКАЗЫВАТЬ ИСТОРИИ?
Илья Овчинников: ХЕЛЬМУТ ЛАХЕНМАН: «МЫ НЕ ПЕЛИ ДОДЕКАФОННУЮ МУЗЫКУ. МЫ ПЕЛИ LIVE IS LIFE»
«Невозможно написать или сымпровизировать такую музыку, которая не нашёптывала бы слушателю истории — или, что точнее, в которой слушатель бы не услышал истории» - пишет Юрий Виноградов в эссе для четвёртого номера нашего альманаха, который в этот раз посвящён проблеме нарратива в музыке.
История интеллектуальных эпох, как и история смены музыкальных стилей, – это череда прощаний с большими нарративами. И время создания новых. На смену универсальным нарративам приходят глобальные; на смену большим – многообразие малых, и именно их совокупность становится новым мета-нарративом современности.
Вопрос нарратива – это во многом вопрос нашего к нему отношения. Великие нарративы можно оспаривать, как это делал великий Томас Манн. «Серьёзной ошибкой легенды было не связать Фауста с музыкой» - эта мысль писателя стала отправной точкой его «Доктора Фаустуса», музыкальные нарративы которого раскрывает в своей статье Дины Якушевич. «Канон – это не музейный экспонат», подхватывает Иван Нечаев в обзорном тексте о канонах и нарративах грузинской институциональной сцены.
Но главное – не относиться к собственному нарративу слишком серьёзно. «Этот текст наверняка покажется простодушным, излишне лирическим и совершенно не философским» - предваряет Константин Черкасов своё воспоминание о недавно ушедших из жизни выдающихся режиссёрах, авторов не просто нарративов, но целых миров. Фёдор Софронов в диалоге с самим собой и вовсе выстраивает биографический нарратив, начиная с детства, когда ему «задали разучивать Сказку Метнера фа минор».
Наконец, центральный материал номера – развёрнутое интервью Ильи Овчинникова с Хельмутом Лахенманом, возможно, самым радикальным разрушителем нарративов среди всех ныне живущих композиторов, – который одновременно стал гуру для нескольких поколений. В преддверии своего 90-летия Лахенман рассуждает не о говорении, но о слышании (о разнице между слушать и слышать, zuhören и hören). А также о разном переживании счастья, заложенном в английском happy и немецком glücklich.
История интеллектуальных эпох, как и история смены музыкальных стилей, – это череда прощаний с большими нарративами. И время создания новых. На смену универсальным нарративам приходят глобальные; на смену большим – многообразие малых, и именно их совокупность становится новым мета-нарративом современности.
Вопрос нарратива – это во многом вопрос нашего к нему отношения. Великие нарративы можно оспаривать, как это делал великий Томас Манн. «Серьёзной ошибкой легенды было не связать Фауста с музыкой» - эта мысль писателя стала отправной точкой его «Доктора Фаустуса», музыкальные нарративы которого раскрывает в своей статье Дины Якушевич. «Канон – это не музейный экспонат», подхватывает Иван Нечаев в обзорном тексте о канонах и нарративах грузинской институциональной сцены.
Но главное – не относиться к собственному нарративу слишком серьёзно. «Этот текст наверняка покажется простодушным, излишне лирическим и совершенно не философским» - предваряет Константин Черкасов своё воспоминание о недавно ушедших из жизни выдающихся режиссёрах, авторов не просто нарративов, но целых миров. Фёдор Софронов в диалоге с самим собой и вовсе выстраивает биографический нарратив, начиная с детства, когда ему «задали разучивать Сказку Метнера фа минор».
Наконец, центральный материал номера – развёрнутое интервью Ильи Овчинникова с Хельмутом Лахенманом, возможно, самым радикальным разрушителем нарративов среди всех ныне живущих композиторов, – который одновременно стал гуру для нескольких поколений. В преддверии своего 90-летия Лахенман рассуждает не о говорении, но о слышании (о разнице между слушать и слышать, zuhören и hören). А также о разном переживании счастья, заложенном в английском happy и немецком glücklich.
Редакция альманаха
ХЕЛЬМУТ ЛАХЕНМАН: «МЫ НЕ ПЕЛИ ДОДЕКАФОННУЮ МУЗЫКУ. МЫ ПЕЛИ LIVE IS LIFE»
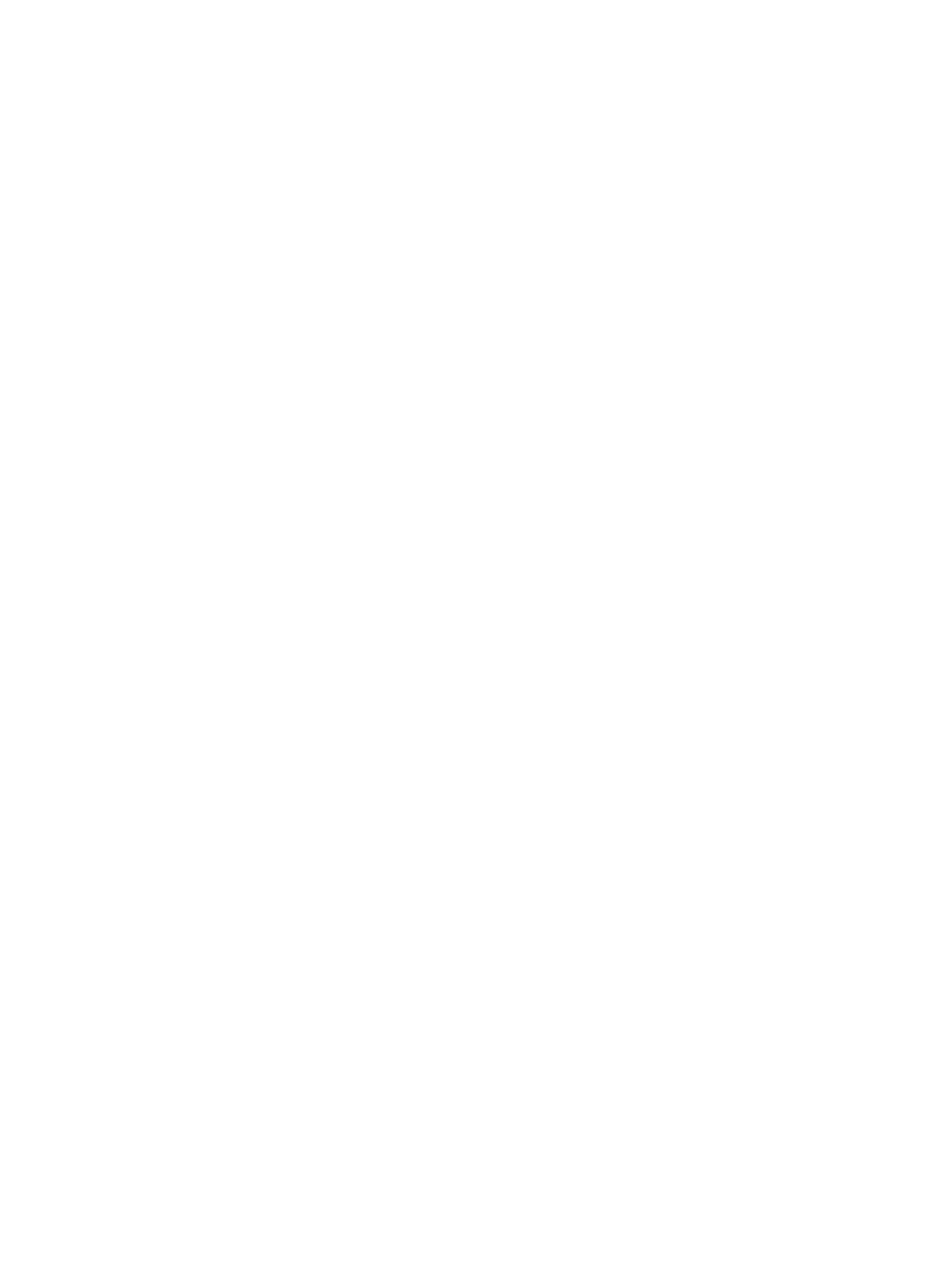
Илья Овчинников
Музыкальный критик, работал выпускающим редактором интернет-издания «Русский журнал», музыкальным обозревателем ежедневной «Газеты». Постоянный автор изданий «Музыкальная жизнь», «КоммерсантЪ» и других. Опубликовал более 200 интервью c крупнейшими музыкантами современности; избранные беседы вошли в книгу «За музыкою только дело». Соавтор книг Льва Маркиза, Владимира Крайнева, Дмитрия Ситковецкого. С 2016 года работает в Московской филармонии.
27 ноября нынешнего года исполняется 90 лет Хельмуту Лахенману. Двенадцать лет назад, когда он приезжал в Россию на фестиваль «Московский форум», Владимир Тарнопольский называл Лахенмана «самым модным в России авангардным композитором». Возможно, точнее было бы сказать «самый влиятельный»: если сочинения Лахенмана и не исполняются у нас так часто, как они бы того заслуживали, его идеи продолжают влиять на многих российских композиторов, которые находятся в расцвете сил сегодня. И если их творчество может показаться достаточно радикальным, то Лахенман — создатель «инструментальной конкретной музыки» — считался радикалом несколько десятилетий назад. Сегодня же он живой классик, чьи сочинения исполняются на крупнейших фестивалях мира в одних программах с самой что ни на есть проверенной классикой. А ещё у него прекрасная память, острый ум и тонкое чувство юмора.
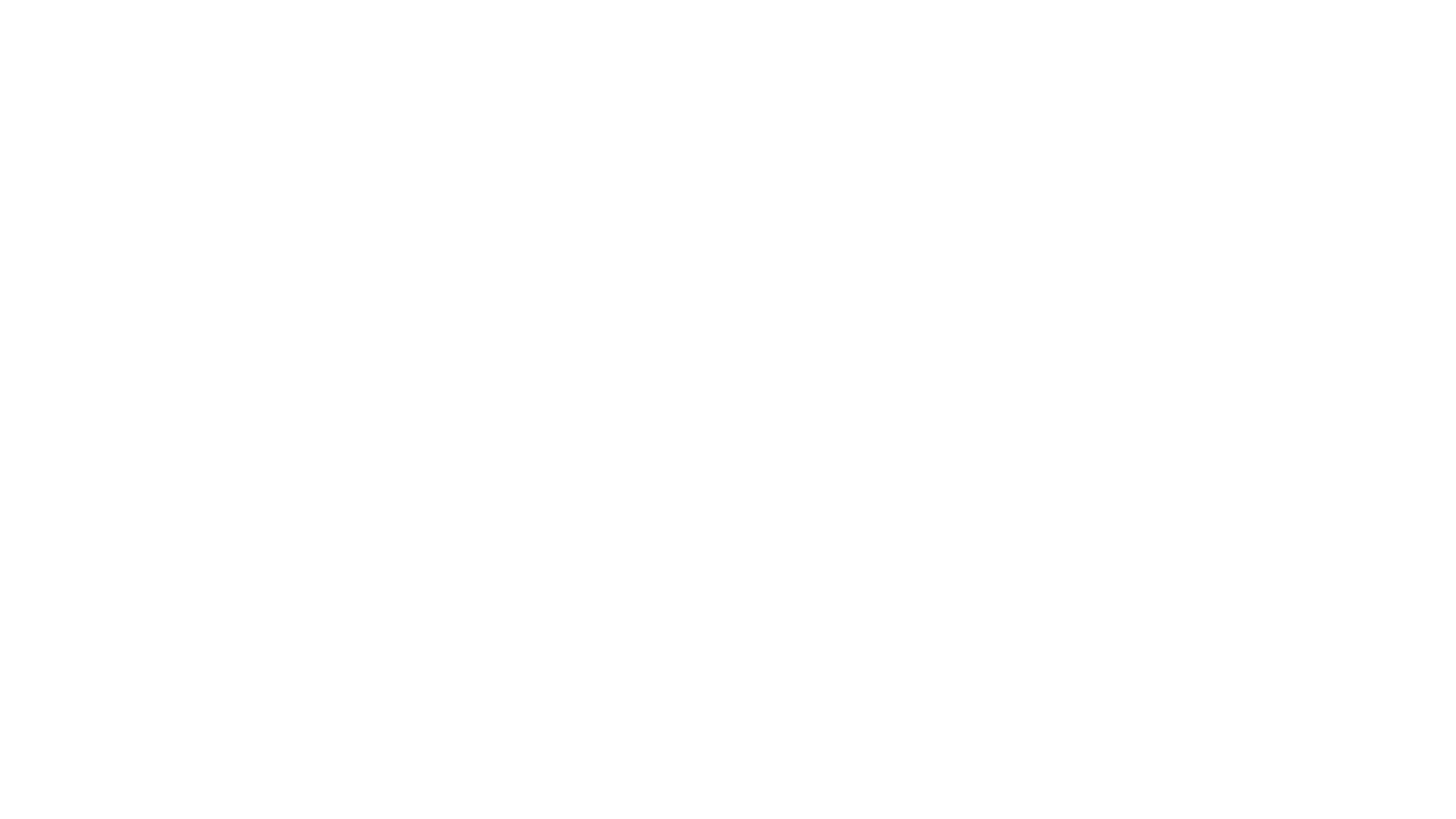
«Я правда играл на рояле?», или Знакомство
И.О. (Илья Овчинников): Маэстро, Ваш приезд в Москву в декабре 2013 года — очень радостное воспоминание для нас. В том числе Ваша встреча со слушателями, когда Вы удивили всех, сказав добрые слова в адрес Эннио Морриконе и даже сыграв фрагмент его музыки на рояле.
Х.Л. (Хельмут Лахенман): Почему бы и нет, я его поклонник. Он ведь больше 15 лет был трубачом и ключевым участником импровизационной группы Nuova Consonanza. Говорил мне, что разрушил свою карьеру из-за киностудии «Чинечитта»: конечно, это приносило больше денег, чем сочинение так называемой новой музыки. Хотя и «серьёзных» произведений он написал не так мало, а потом был для этого уже стар. Не то чтобы его музыка была важной частью моей жизни; но и она среди прочего мне нужна.
И.О.: Тогда на встрече со слушателями вы играли многих композиторов, от Баха до Лигети, а также приняли участие в авторском концерте, где выступили как пианист.
Х.Л.: Что, я правда играл на рояле?
И.О.: Да, абсолютно.
Х.Л.: Это была «серьёзная» музыка или что-то скорее для развлечения?
И.О.: Это было Ваше сочинение, полагаю, Ein Kinderspiel.
Х.Л.: Наверное. Или, может быть, Wiegenmusik? Люблю это сочинение, хоть и старое, но... oldie but goldie! 1963 год. Давняя пьеса, но очень важная для меня.
И.О.: Вы ведь не так часто выступаете как пианист, верно?
Х.Л.: Меня иногда спрашивали, дескать, господин Лахенман, что вы намерены делать, если перестанете сочинять? «Буду играть на рояле», — отвечал я. Один из способов расслабиться, скажем так.
Х.Л. (Хельмут Лахенман): Почему бы и нет, я его поклонник. Он ведь больше 15 лет был трубачом и ключевым участником импровизационной группы Nuova Consonanza. Говорил мне, что разрушил свою карьеру из-за киностудии «Чинечитта»: конечно, это приносило больше денег, чем сочинение так называемой новой музыки. Хотя и «серьёзных» произведений он написал не так мало, а потом был для этого уже стар. Не то чтобы его музыка была важной частью моей жизни; но и она среди прочего мне нужна.
И.О.: Тогда на встрече со слушателями вы играли многих композиторов, от Баха до Лигети, а также приняли участие в авторском концерте, где выступили как пианист.
Х.Л.: Что, я правда играл на рояле?
И.О.: Да, абсолютно.
Х.Л.: Это была «серьёзная» музыка или что-то скорее для развлечения?
И.О.: Это было Ваше сочинение, полагаю, Ein Kinderspiel.
Х.Л.: Наверное. Или, может быть, Wiegenmusik? Люблю это сочинение, хоть и старое, но... oldie but goldie! 1963 год. Давняя пьеса, но очень важная для меня.
И.О.: Вы ведь не так часто выступаете как пианист, верно?
Х.Л.: Меня иногда спрашивали, дескать, господин Лахенман, что вы намерены делать, если перестанете сочинять? «Буду играть на рояле», — отвечал я. Один из способов расслабиться, скажем так.
«Мне пришлось отдать швейцару весь свой запас жвачки», или Снова в СССР
И.О.: В 2013 году Вы посетили постсоветскую Россию, а прежде бывали и в Советском Союзе. Что Вам вспоминается об этих визитах?
Х.Л.: Вспоминается наш приезд в Санкт-Петербург [тогда ещё Ленинград — И. О.], там были и Дьёрдь Куртаг, и Луиджи Ноно, и Кейдж... Это было в 1988-м, когда Россия стала открываться навстречу Западу. А за некоторое время до начала перемен, в 1982-м, я был в Москве в составе группы из четырёх композиторов и встречался с господином Хренниковым. Мы жили в гостинице «Украина», нас пригласил в гости Денисов, мы должны были идти ночью к нему на Студенческую. Было три ночи, и мне пришлось отдать швейцару весь свой запас жвачки, чтобы он нас выпустил, а потом впустил обратно. Там был Денисов, был Шнитке, была Губайдулина, была Фирсова. Мы сидели на кухне, слушали записи, смотрели партитуры, которые мы привезли, и они попросили нас отдать всё это им, а не господину Хренникову — мол, он бы оставил записи и партитуры у себя.
А наутро у нас была встреча с «нормальными», официальными композиторами, они поделились с нами партитурами, пластинками и ждали того же от нас, а нам нечего было им дать — мы всё отдали Денисову! Очень странная получилась ситуация. Кроме того, нас пригласили на урок в класс Хренникова, там было два студента, они сыграли в четыре руки переложение оркестрового фрагмента из какой-то оперы, мы познакомились и спросили, есть ли у них к нам вопросы, но они не знали, что спросить. Тогда я спросил, слушают и изучают ли они музыку Западной Европы — хоть кого-нибудь, ну, например, Мессиана. Глаза студентов обратились на господина Хренникова, он ответил: «Это формалистическая музыка, она нас категорически не интересует. Следующий вопрос». Так проходила встреча, это было по-своему интересно.
А на следующий день мы пошли слушать Вторую симфонию Шнитке, дирижировал Геннадий Рождественский. Для меня это стало большим событием. Потом мы долго спорили с Альфредом о том, возможно ли сегодня всё ещё писать симфонии. Я был более скептически настроен на этот счёт: по-моему, симфония как таковая предназначена для более монолитного общества. Сегодня же у нас множество обществ, типов мышления, и для меня симфония скорее носитель некого исторического сообщения. А ведь симфонии пишут до сих пор — и молодые композиторы, и не очень. Что я люблю, так это Симфонию Лючано Берио — особенно эту часть, посвященную Мартину Лютеру Кингу, знаете? Замечательная музыка! Но ни Штокхаузен, ни Луиджи Ноно, ни Булез симфоний не писали. А вот для Альфреда это было очень важно. Позже он написал мне письмо о том, как был счастлив возможности такого разговора. Он был очень открыт любым другим мнениям, в том числе и абсолютно противоположным... великий композитор! Наше уважение друг к другу было совершенно взаимным, что очень важно, не так ли?
И.О.: Безусловно, хотя вы действительно такие разные.
Х.Л.: Да, просто мы с ним двигались, так сказать, по разным улицам, но я тем счастливее, чем этих улиц больше. И не стану поддерживать композиторов, которые идут по моим следам. Мне гораздо интереснее те, с кем у нас разные взгляды на материал и на средства его воплощения. Теперь мне много лет, и я не так хорошо информирован, как, наверное, следовало бы. Много достойных композиторов в странах Восточной Европы, прекрасно владеющих ремеслом и пишущих очень выразительную, экспрессивную музыку. У Ноно, который был невероятно экспрессивен сам по себе, я пытался научиться тому, чтобы музыка не была настолько поглощена идеей выразительности. Для меня выразительность — то, что наступает в финале, но спекулировать этим композитору не следует.
В один из моих приездов моё сочинение Accanto исполнял в Новосибирске оркестр Арнольда Каца; они играли самым что ни на есть романтическим образом! При этом вели себя абсолютно открыто, и струнники были готовы, скажем, к игре за подставкой и к другим приёмам – к тому, что и в Германии многие музыканты отказываются делать: «Мы не станем, — говорят они, — это не музыка». В оркестре Каца же ничего такого не говорили, но выразительность понимали максимально преувеличенно. Я слышал, как другой российский оркестр таким же образом исполнял Булеза. У Булеза музыка очень ясная, спокойная и ничего не имеет общего с романтической экспрессией... В Accanto есть партия солирующего кларнета, но это не кларнетовый концерт, а у них получился именно он! Кстати, потом они приезжали в Германию и исполняли Скрябина, Шёнберга, моё сочинение и что-то ещё. Услышать Accanto в таком исполнении — это было как познакомиться с ним заново. (Смеётся.)
И.О.: И что Вы чувствовали по этому поводу?
Х.Л.: Невероятное уважение к тому, что возможен абсолютно другой мир музыки, другой способ думать о ней, чувствовать её, нуждаться в ней... Совсем другой опыт был у меня этой осенью, когда под управлением Владимира Юровского исполнялся мой фортепианный концерт Ausklang, а после — Одиннадцатая симфония Шостаковича, буквально другая планета в том, что касается выразительности. И, должен признаться, я не остался равнодушным, меня глубоко тронула эта музыка. В определённом смысле любая музыка выразительна, и композитор даже сам не всегда понимает, что он сделал. Это было гораздо сильнее, чем иные случаи спекуляции, когда композитор говорит своей музыкой «здесь вы должны почувствовать то-то, а здесь то-то»: это попросту нелепо, это дилетантство.
Х.Л.: Вспоминается наш приезд в Санкт-Петербург [тогда ещё Ленинград — И. О.], там были и Дьёрдь Куртаг, и Луиджи Ноно, и Кейдж... Это было в 1988-м, когда Россия стала открываться навстречу Западу. А за некоторое время до начала перемен, в 1982-м, я был в Москве в составе группы из четырёх композиторов и встречался с господином Хренниковым. Мы жили в гостинице «Украина», нас пригласил в гости Денисов, мы должны были идти ночью к нему на Студенческую. Было три ночи, и мне пришлось отдать швейцару весь свой запас жвачки, чтобы он нас выпустил, а потом впустил обратно. Там был Денисов, был Шнитке, была Губайдулина, была Фирсова. Мы сидели на кухне, слушали записи, смотрели партитуры, которые мы привезли, и они попросили нас отдать всё это им, а не господину Хренникову — мол, он бы оставил записи и партитуры у себя.
А наутро у нас была встреча с «нормальными», официальными композиторами, они поделились с нами партитурами, пластинками и ждали того же от нас, а нам нечего было им дать — мы всё отдали Денисову! Очень странная получилась ситуация. Кроме того, нас пригласили на урок в класс Хренникова, там было два студента, они сыграли в четыре руки переложение оркестрового фрагмента из какой-то оперы, мы познакомились и спросили, есть ли у них к нам вопросы, но они не знали, что спросить. Тогда я спросил, слушают и изучают ли они музыку Западной Европы — хоть кого-нибудь, ну, например, Мессиана. Глаза студентов обратились на господина Хренникова, он ответил: «Это формалистическая музыка, она нас категорически не интересует. Следующий вопрос». Так проходила встреча, это было по-своему интересно.
А на следующий день мы пошли слушать Вторую симфонию Шнитке, дирижировал Геннадий Рождественский. Для меня это стало большим событием. Потом мы долго спорили с Альфредом о том, возможно ли сегодня всё ещё писать симфонии. Я был более скептически настроен на этот счёт: по-моему, симфония как таковая предназначена для более монолитного общества. Сегодня же у нас множество обществ, типов мышления, и для меня симфония скорее носитель некого исторического сообщения. А ведь симфонии пишут до сих пор — и молодые композиторы, и не очень. Что я люблю, так это Симфонию Лючано Берио — особенно эту часть, посвященную Мартину Лютеру Кингу, знаете? Замечательная музыка! Но ни Штокхаузен, ни Луиджи Ноно, ни Булез симфоний не писали. А вот для Альфреда это было очень важно. Позже он написал мне письмо о том, как был счастлив возможности такого разговора. Он был очень открыт любым другим мнениям, в том числе и абсолютно противоположным... великий композитор! Наше уважение друг к другу было совершенно взаимным, что очень важно, не так ли?
И.О.: Безусловно, хотя вы действительно такие разные.
Х.Л.: Да, просто мы с ним двигались, так сказать, по разным улицам, но я тем счастливее, чем этих улиц больше. И не стану поддерживать композиторов, которые идут по моим следам. Мне гораздо интереснее те, с кем у нас разные взгляды на материал и на средства его воплощения. Теперь мне много лет, и я не так хорошо информирован, как, наверное, следовало бы. Много достойных композиторов в странах Восточной Европы, прекрасно владеющих ремеслом и пишущих очень выразительную, экспрессивную музыку. У Ноно, который был невероятно экспрессивен сам по себе, я пытался научиться тому, чтобы музыка не была настолько поглощена идеей выразительности. Для меня выразительность — то, что наступает в финале, но спекулировать этим композитору не следует.
В один из моих приездов моё сочинение Accanto исполнял в Новосибирске оркестр Арнольда Каца; они играли самым что ни на есть романтическим образом! При этом вели себя абсолютно открыто, и струнники были готовы, скажем, к игре за подставкой и к другим приёмам – к тому, что и в Германии многие музыканты отказываются делать: «Мы не станем, — говорят они, — это не музыка». В оркестре Каца же ничего такого не говорили, но выразительность понимали максимально преувеличенно. Я слышал, как другой российский оркестр таким же образом исполнял Булеза. У Булеза музыка очень ясная, спокойная и ничего не имеет общего с романтической экспрессией... В Accanto есть партия солирующего кларнета, но это не кларнетовый концерт, а у них получился именно он! Кстати, потом они приезжали в Германию и исполняли Скрябина, Шёнберга, моё сочинение и что-то ещё. Услышать Accanto в таком исполнении — это было как познакомиться с ним заново. (Смеётся.)
И.О.: И что Вы чувствовали по этому поводу?
Х.Л.: Невероятное уважение к тому, что возможен абсолютно другой мир музыки, другой способ думать о ней, чувствовать её, нуждаться в ней... Совсем другой опыт был у меня этой осенью, когда под управлением Владимира Юровского исполнялся мой фортепианный концерт Ausklang, а после — Одиннадцатая симфония Шостаковича, буквально другая планета в том, что касается выразительности. И, должен признаться, я не остался равнодушным, меня глубоко тронула эта музыка. В определённом смысле любая музыка выразительна, и композитор даже сам не всегда понимает, что он сделал. Это было гораздо сильнее, чем иные случаи спекуляции, когда композитор говорит своей музыкой «здесь вы должны почувствовать то-то, а здесь то-то»: это попросту нелепо, это дилетантство.
«Публика кричала "бу" — я был в восторге», или Диалоги с Шостаковичем и Листом
И.О.: Как воспринимались в одной программе Ваше сочинение и симфония Шостаковича — два разных музыкальных мира?
Х.Л.: Я бы сказал, что сила музыки Шостаковича говорила сама за себя. Хотя, например, среди моих друзей многие его не любят: дескать, ему не хватало смелости писать во весь голос, когда его творчество находилось под таким сильным контролем... Я же думаю, что он шёл своим путем, и даже если его музыка может кому-то показаться достаточно спокойной или даже позитивной, на самом деле она абсолютно депрессивна! А эта позитивность — только для виду, знаете, как «потёмкинские деревни»... говорить о ней можно много, но то, что в ней чувствуется... есть немецкое слово heiter. По смыслу оно близко к слову «радостный» (joyful), но скорее это все же «светлый, безмятежный». И это не значит — забыть обо всех проблемах, но — быть над ними, улыбаться, даже если вокруг катастрофа.
Не помню, кто мне рассказал такой исторический анекдот: идёт Первая мировая война, российский император говорит: «Ситуация серьёзная, но небезнадёжная». А император Австро-Венгрии говорит: «Ситуация безнадёжная, но не такая уж серьёзная». И это напоминает мне Шостаковича. Не говоря уже о его технике инструментовки, от которой моя очень далека. Несколько лет назад я написал пьесу для оркестра в ми-бемоль мажоре, Marche Fatale. А опыт инструментовки у меня небольшой — Луиджи Ноно этому меня не смог научить. И я работал, имея перед собой три партитуры: это, во-первых, «Елена Египетская» Р. Штрауса, во-вторых, «Шехеразада» Равеля, невероятно экономная и невероятно сильная. А третьей была Четвёртая симфония Шостаковича с её брутальной оркестровкой, и это потрясающе мощно! Инструментовка — действительно часть композиции, тогда как в ХХ веке есть пьесы, которые точнее назвать аранжировками, нежели сочинениями. Например, «Болеро» Равеля. Или третья часть Первой симфонии Малера. Бывает, что композитора обуревают такие чувства, которые он просто не может выразить. Например, если я влюблён или если я в депрессии, у меня нет слов, чтобы описать это. И, может, это даже к лучшему.
И.О.: Мне доводилось слышать Ваше сочинение и в более неожиданном сочетании: в 2011 году на фестивале «Диалоги» в Зальцбурге Ваш струнный квартет Grido звучал в одной программе с Сонатой си минор Листа. Её, как и сейчас Ausklang, исполнял Пьер-Лоран Эмар, так объяснивший смысл этого сопоставления: «В пару к Grido я хотел выбрать музыку из абсолютно другого мира, а Grido — вещь продолжительная, в одной части, с очень яркой композицией. И в то же время особенная, по-новому высвечивающая возможности квартета. Мне пришёл в голову шедевр фортепианной литературы, также в одной части и с очень сильной формой, также крайне новаторский и открывающий много новых возможностей для инструмента. То есть контраст сильный, но точки пересечения есть». Как вам кажется, убедительно?
Х.Л.: Почему нет? Идея неплохая. Так называемая современная музыка в концертной программе сегодня не является проблемой, как прежде. Хотя и не то чтобы её стали лучше понимать. Многие слушают музыку мою, Булеза, моих друзей и аплодируют; относятся к ней с симпатией, с готовностью воспринимать новое, но это не значит, что они её понимают. Я был счастлив, когда недавно в Штутгарте, где я живу, парижский квартет Diotima играл соль-мажорный квартет Шуберта, затем Grido, затем один из квартетов Брамса. Шуберт имел большой успех, зато моей пьесе публика кричала «бу» — так ретроградно, так возмущённо! Я пришёл в восторг — по крайней мере они были задеты. Хотя я никогда специально не хотел кого бы то ни было провоцировать. Когда композиторы это делают целенаправленно, я отказываюсь реагировать. Хотите провоцировать меня? Бессмысленно. Как-никак я из швабов, нам свойственны трезвость ума и хладнокровие — даже в очень патетической ситуации.
Я очень пессимистически настроен насчёт сегодняшнего значения культуры — не только если смотреть от нас на восток, например, в России, хотя, возможно, я недостаточно информирован, но также в США или в Германии. Культура стала своего рода развлечением. Я совсем не знаю русского, но на немецком у слова kunst — два значения. Первое — чисто прикладное: искусство кулинарии или чего-то другого, удовлетворяющего наши ежедневные потребности. И второе — искусство как средство глубоко задеть слушателя, пробудить в нем дух — ghost, geist, spirit. Spirito по-итальянски, хотя у этого слишком религиозный оттенок, esprit по-французски... в общем, то, что за гранью рационального мышления. Для меня это единственная возможность продолжения существования.
Тем временем в Германии набирает популярность АдГ (AfD) — фактически нацистская партия, которая становится всё сильнее. Похожая ситуация в США, я внимательно за ней слежу. Я достаточно стар, не то чтобы у меня много проблем, но есть дети, есть внуки, и их долг — строить такую жизнь, в которой значение искусства не будет преуменьшено. А сейчас люди ходят на концерт развлечься — всё равно что на рынок, где можно выпить пива, потусоваться, покататься на карусели. Послушать симфонию Малера сегодня — как посмотреть фильм-катастрофу, где заранее известен финал; для меня это всё равно что прятать голову в песок: забыл, кто из животных так делает, но вы помните — когда они чувствуют страх, опасность, то прячут голову в песок. Искусство сегодня способствует именно этому, а не пробуждению людей. Может быть, так было всегда, но сегодня, со всеми технологическими новшествами, я бы назвал картину особенно пессимистичной.
Х.Л.: Я бы сказал, что сила музыки Шостаковича говорила сама за себя. Хотя, например, среди моих друзей многие его не любят: дескать, ему не хватало смелости писать во весь голос, когда его творчество находилось под таким сильным контролем... Я же думаю, что он шёл своим путем, и даже если его музыка может кому-то показаться достаточно спокойной или даже позитивной, на самом деле она абсолютно депрессивна! А эта позитивность — только для виду, знаете, как «потёмкинские деревни»... говорить о ней можно много, но то, что в ней чувствуется... есть немецкое слово heiter. По смыслу оно близко к слову «радостный» (joyful), но скорее это все же «светлый, безмятежный». И это не значит — забыть обо всех проблемах, но — быть над ними, улыбаться, даже если вокруг катастрофа.
Не помню, кто мне рассказал такой исторический анекдот: идёт Первая мировая война, российский император говорит: «Ситуация серьёзная, но небезнадёжная». А император Австро-Венгрии говорит: «Ситуация безнадёжная, но не такая уж серьёзная». И это напоминает мне Шостаковича. Не говоря уже о его технике инструментовки, от которой моя очень далека. Несколько лет назад я написал пьесу для оркестра в ми-бемоль мажоре, Marche Fatale. А опыт инструментовки у меня небольшой — Луиджи Ноно этому меня не смог научить. И я работал, имея перед собой три партитуры: это, во-первых, «Елена Египетская» Р. Штрауса, во-вторых, «Шехеразада» Равеля, невероятно экономная и невероятно сильная. А третьей была Четвёртая симфония Шостаковича с её брутальной оркестровкой, и это потрясающе мощно! Инструментовка — действительно часть композиции, тогда как в ХХ веке есть пьесы, которые точнее назвать аранжировками, нежели сочинениями. Например, «Болеро» Равеля. Или третья часть Первой симфонии Малера. Бывает, что композитора обуревают такие чувства, которые он просто не может выразить. Например, если я влюблён или если я в депрессии, у меня нет слов, чтобы описать это. И, может, это даже к лучшему.
И.О.: Мне доводилось слышать Ваше сочинение и в более неожиданном сочетании: в 2011 году на фестивале «Диалоги» в Зальцбурге Ваш струнный квартет Grido звучал в одной программе с Сонатой си минор Листа. Её, как и сейчас Ausklang, исполнял Пьер-Лоран Эмар, так объяснивший смысл этого сопоставления: «В пару к Grido я хотел выбрать музыку из абсолютно другого мира, а Grido — вещь продолжительная, в одной части, с очень яркой композицией. И в то же время особенная, по-новому высвечивающая возможности квартета. Мне пришёл в голову шедевр фортепианной литературы, также в одной части и с очень сильной формой, также крайне новаторский и открывающий много новых возможностей для инструмента. То есть контраст сильный, но точки пересечения есть». Как вам кажется, убедительно?
Х.Л.: Почему нет? Идея неплохая. Так называемая современная музыка в концертной программе сегодня не является проблемой, как прежде. Хотя и не то чтобы её стали лучше понимать. Многие слушают музыку мою, Булеза, моих друзей и аплодируют; относятся к ней с симпатией, с готовностью воспринимать новое, но это не значит, что они её понимают. Я был счастлив, когда недавно в Штутгарте, где я живу, парижский квартет Diotima играл соль-мажорный квартет Шуберта, затем Grido, затем один из квартетов Брамса. Шуберт имел большой успех, зато моей пьесе публика кричала «бу» — так ретроградно, так возмущённо! Я пришёл в восторг — по крайней мере они были задеты. Хотя я никогда специально не хотел кого бы то ни было провоцировать. Когда композиторы это делают целенаправленно, я отказываюсь реагировать. Хотите провоцировать меня? Бессмысленно. Как-никак я из швабов, нам свойственны трезвость ума и хладнокровие — даже в очень патетической ситуации.
Я очень пессимистически настроен насчёт сегодняшнего значения культуры — не только если смотреть от нас на восток, например, в России, хотя, возможно, я недостаточно информирован, но также в США или в Германии. Культура стала своего рода развлечением. Я совсем не знаю русского, но на немецком у слова kunst — два значения. Первое — чисто прикладное: искусство кулинарии или чего-то другого, удовлетворяющего наши ежедневные потребности. И второе — искусство как средство глубоко задеть слушателя, пробудить в нем дух — ghost, geist, spirit. Spirito по-итальянски, хотя у этого слишком религиозный оттенок, esprit по-французски... в общем, то, что за гранью рационального мышления. Для меня это единственная возможность продолжения существования.
Тем временем в Германии набирает популярность АдГ (AfD) — фактически нацистская партия, которая становится всё сильнее. Похожая ситуация в США, я внимательно за ней слежу. Я достаточно стар, не то чтобы у меня много проблем, но есть дети, есть внуки, и их долг — строить такую жизнь, в которой значение искусства не будет преуменьшено. А сейчас люди ходят на концерт развлечься — всё равно что на рынок, где можно выпить пива, потусоваться, покататься на карусели. Послушать симфонию Малера сегодня — как посмотреть фильм-катастрофу, где заранее известен финал; для меня это всё равно что прятать голову в песок: забыл, кто из животных так делает, но вы помните — когда они чувствуют страх, опасность, то прячут голову в песок. Искусство сегодня способствует именно этому, а не пробуждению людей. Может быть, так было всегда, но сегодня, со всеми технологическими новшествами, я бы назвал картину особенно пессимистичной.
«Ко мне подошёл принц Чарльз, а я уже выпил шампанского», или Как понять музыку Лахенмана
И.О.: Вы сказали, что современная музыка в концертной программе больше не является проблемой, как прежде. Однако для ряда слушателей, которые любят Булеза, Ноно, Штокхаузена, именно Ваша музыка является камнем преткновения, именно её они воспринимают с трудом. Как помочь им открыть её для себя?
Х.Л.: На этот случай есть моя любимая история — другой ответ мне лень придумывать. Однажды меня пригласили стать почётным членом Королевского колледжа музыки в Лондоне. Его президентом был тогда принц Чарльз. Незадолго до меня этой же чести была удостоена российская виолончелистка Наталия Гутман, мы все были там вместе. И на приёме принц Чарльз подошёл ко мне: «Господин Лахенман, Вашу музыку так трудно понять...». А я уже выпил шампанского и говорю: «Ваше высочество, у Вас был коллега по имени Гамлет, о котором говорили, что в его безумии есть последовательность. Так вот последовательность есть и в моем безумии — попробуйте полюбить его». Так я ответил принцу, он посмеялся, хотя и вряд ли стал после этого любить мою музыку сильнее — просто выбрал самый легкий путь сказать о ней хоть что-то.
Когда люди говорят, что у них проблемы с пониманием той или иной музыки, я отвечаю, что в немецком языке есть большая разница между zuhören и hören — слушать и слышать. Сейчас вы слушаете то, что я говорю. Но слышать по-настоящему значит не только открыть свой слух, но и открыть своё сознание, свои границы восприятия. Слышать меня значит не просто понимать, что я говорю, но понимать, что со мной происходит. А музыкальное произведение важно не только слушать, слышать, но и наблюдать, изучать, присматриваться: тогда ваш опыт его постижения будет совершенно другим. Вы начнёте всматриваться в себя, в то, что происходит с вами. Возможно, я рассержен? Возможно, меня провоцируют? Если да, как мне обуздать свой гнев? И речь уже не о музыке, а о нашей повседневности: о том, как нам принять другой тип мышления или другой тип слышания, даже если они нас раздражают или злят.
Именно в этом для меня заключается единственный политический аспект музыки или искусства вообще. Я c подозрением отношусь к ораториям о Холокосте, а теперь стали появляться ещё и ковидные симфонии... Что же касается музыки, которая вас будто бы злит, раздражает, то же самое было во времена Баха, который казался современникам слишком сложным. А в наше время люди слушают его музыку со слезами на глазах, как мой отец, например. Но Бах об этом не думал — он просто был счастлив, когда создавал хорал, арию и так далее.
Важно понимать, что в Европе или, шире говоря, в западной цивилизации идея того, что есть музыка, постоянно менялась. Моя жена — японка, и в Японии у музыки тысячелетние традиции, как и в Китае, которые так сильно не менялись. И что же, японцы или китайцы хорошо знают свою национальную музыку? Нет, они знают Баха и Бетховена! Национальная музыка для них — экзотика. Идея же европейской музыки, начиная с григорианского хорала и даже с более ранних времён, изменилась до неузнаваемости. Скажем, до мажор «Хорошо темперированного клавира» Баха и до мажор симфонии «Юпитер» Моцарта — это совершенно не одно и то же. А в Седьмой симфонии Малера уж тем более... я это совсем не к тому, что, как иногда спрашивают, дескать, господин Лахенман, вы тоже хотите найти новые звуки?
И.О.: А Вы разве не хотите?
Х.Л.: Нет, я ищу новый контекст для звука, который уже был. Сам по себе скрежет скрипки — такое может написать кто угодно. Но поместить знакомое звучание в непривычный контекст — совершенно естественная идея, это креативный процесс, меняющий значение того, что такое звук. Детям, кстати, это легче объяснить, хоть это им и не так интересно, когда есть YouTube и все возможности современной электроники, позволяющие мгновенно проверить, что было три года назад. Прежде у музыки была иная функция — в этом было больше волшебного, возможно, религиозного. Для меня это по-прежнему волшебство совместного переживания. Симфонию можно послушать по дороге с работы, можно дома, но люди по-прежнему приходят в концертный зал, чтобы разделить этот опыт с другими.
Сила музыки огромна. Когда мне было семь лет, в 1943 году, случился Сталинград. Я слушал радио с отцом, матерью, братьев не было дома. И Геббельс, министр пропаганды, говорил, что братья и сёстры тех молодых людей, которые отдали свои жизни под Сталинградом, должны быть счастливы и горды, поскольку те погибли за великую идею. Затем зазвучала Пятая симфония Бетховена, и я в свои семь лет мечтал погибнуть ради фюрера! Вот как можно использовать великую музыку не по назначению — Бетховен бы не был этому рад. Но можно использовать музыку и иначе, как это было после войны: молодые немецкие композиторы в Дармштадте, в Кёльне хотели подвести под музыку новую идейную основу. Музыка больше не воспринималась как волшебство — скорее как торжество креативной силы, как размышление и переживание, для которого не нужны слова, но нужен новый язык.
Сегодня же музыку вновь используют демагогическим образом, будь то музыка Вагнера или музыка Бетховена. Так люди отучаются думать и превращаются в стадо. В то же время, например, на чемпионате мира по футболу мы все вместе поём наш гимн. Это музыка не для слышания — она для того, чтобы у нас возникло чувство единения, гордости за свою страну. Почему нет? Для меня это не проблема, мне это по душе. Когда мы с детьми во время каникул ездили по Италии, мы в машине не пели додекафонную музыку, хоть это, возможно, и было неправильно. Мы пели: «Live is life, na-na, na, na-na» — так называемую лёгкую музыку. И её исполнителей я очень уважаю! Не только Морриконе — он был серьёзным композитором. Но это тоже работа, тоже ремесло и это тоже называется art, и они по праву называют себя artists.
И.О.: При этом многие представители мира академической музыки любые другие жанры презирают либо игнорируют.
Х.Л.: Нам всем следует быть более открытыми, я не только о музыке: благодаря «Турецкому рондо» Моцарта европейцы стали больше интересоваться другими культурами. Хотя и вряд ли стали лучше их понимать, обращая внимание в первую очередь на внешние черты, на привлекательную экзотику: в результате появился, например, «Арабский танец» Чайковского. Он никого не побуждает к тому, чтобы глубже узнать арабскую культуру. То же самое с китайской или японской: в Германии сейчас много композиторов из Японии, они используют японские инструменты, флейту сякухати, например, потому что у неё красивый звук, но пишут при этом додекафонную музыку, что абсолютно безумно, по-моему. Людям следует гораздо больше интересоваться тем, что они видят и что за этим стоит.
У меня пятеро детей, один из них занимается продажей картин. Когда-то он был в Америке, ходил в Карнеги-холл, где проводилась серия концертов для очень богатых дам. Они хотели слышать музыку, под которую им было бы приятно проводить время вместе. Почему нет? Столько красивой музыки! В программах были Сибелиус, Чайковский, Дворжак, Рахманинов, а на следующую они пригласили Пьера Булеза. (Смеётся.) Он прекрасно понял идею серии и начал с «Моря» Дебюсси — ещё один пример того, как музыка используется не по назначению, то есть для приятного досуга. А продолжил он «Весной священной» Стравинского. Сама по себе эта вещь для концертной программы не проблема, но перед её исполнением, как рассказал мне сын, Булез обратился к публике: «Перед тем, как мы начнём следующее сочинение, давайте послушаем, что происходит у альтов в начале второй части». И альты сыграли несколько тактов. «А теперь давайте послушаем пиццикато виолончели вместе с басовой флейтой». И они сыграли. Дамы были абсолютно счастливы и, более того, горды: они не просто хорошо провели время, но что-то открыли для себя, почувствовали креативную энергию композитора и дирижёра... Кажется, я говорю как автомат. Это ужасно. Да ещё и повторяюсь... я ведь сам немножко homo politicus.
Х.Л.: На этот случай есть моя любимая история — другой ответ мне лень придумывать. Однажды меня пригласили стать почётным членом Королевского колледжа музыки в Лондоне. Его президентом был тогда принц Чарльз. Незадолго до меня этой же чести была удостоена российская виолончелистка Наталия Гутман, мы все были там вместе. И на приёме принц Чарльз подошёл ко мне: «Господин Лахенман, Вашу музыку так трудно понять...». А я уже выпил шампанского и говорю: «Ваше высочество, у Вас был коллега по имени Гамлет, о котором говорили, что в его безумии есть последовательность. Так вот последовательность есть и в моем безумии — попробуйте полюбить его». Так я ответил принцу, он посмеялся, хотя и вряд ли стал после этого любить мою музыку сильнее — просто выбрал самый легкий путь сказать о ней хоть что-то.
Когда люди говорят, что у них проблемы с пониманием той или иной музыки, я отвечаю, что в немецком языке есть большая разница между zuhören и hören — слушать и слышать. Сейчас вы слушаете то, что я говорю. Но слышать по-настоящему значит не только открыть свой слух, но и открыть своё сознание, свои границы восприятия. Слышать меня значит не просто понимать, что я говорю, но понимать, что со мной происходит. А музыкальное произведение важно не только слушать, слышать, но и наблюдать, изучать, присматриваться: тогда ваш опыт его постижения будет совершенно другим. Вы начнёте всматриваться в себя, в то, что происходит с вами. Возможно, я рассержен? Возможно, меня провоцируют? Если да, как мне обуздать свой гнев? И речь уже не о музыке, а о нашей повседневности: о том, как нам принять другой тип мышления или другой тип слышания, даже если они нас раздражают или злят.
Именно в этом для меня заключается единственный политический аспект музыки или искусства вообще. Я c подозрением отношусь к ораториям о Холокосте, а теперь стали появляться ещё и ковидные симфонии... Что же касается музыки, которая вас будто бы злит, раздражает, то же самое было во времена Баха, который казался современникам слишком сложным. А в наше время люди слушают его музыку со слезами на глазах, как мой отец, например. Но Бах об этом не думал — он просто был счастлив, когда создавал хорал, арию и так далее.
Важно понимать, что в Европе или, шире говоря, в западной цивилизации идея того, что есть музыка, постоянно менялась. Моя жена — японка, и в Японии у музыки тысячелетние традиции, как и в Китае, которые так сильно не менялись. И что же, японцы или китайцы хорошо знают свою национальную музыку? Нет, они знают Баха и Бетховена! Национальная музыка для них — экзотика. Идея же европейской музыки, начиная с григорианского хорала и даже с более ранних времён, изменилась до неузнаваемости. Скажем, до мажор «Хорошо темперированного клавира» Баха и до мажор симфонии «Юпитер» Моцарта — это совершенно не одно и то же. А в Седьмой симфонии Малера уж тем более... я это совсем не к тому, что, как иногда спрашивают, дескать, господин Лахенман, вы тоже хотите найти новые звуки?
И.О.: А Вы разве не хотите?
Х.Л.: Нет, я ищу новый контекст для звука, который уже был. Сам по себе скрежет скрипки — такое может написать кто угодно. Но поместить знакомое звучание в непривычный контекст — совершенно естественная идея, это креативный процесс, меняющий значение того, что такое звук. Детям, кстати, это легче объяснить, хоть это им и не так интересно, когда есть YouTube и все возможности современной электроники, позволяющие мгновенно проверить, что было три года назад. Прежде у музыки была иная функция — в этом было больше волшебного, возможно, религиозного. Для меня это по-прежнему волшебство совместного переживания. Симфонию можно послушать по дороге с работы, можно дома, но люди по-прежнему приходят в концертный зал, чтобы разделить этот опыт с другими.
Сила музыки огромна. Когда мне было семь лет, в 1943 году, случился Сталинград. Я слушал радио с отцом, матерью, братьев не было дома. И Геббельс, министр пропаганды, говорил, что братья и сёстры тех молодых людей, которые отдали свои жизни под Сталинградом, должны быть счастливы и горды, поскольку те погибли за великую идею. Затем зазвучала Пятая симфония Бетховена, и я в свои семь лет мечтал погибнуть ради фюрера! Вот как можно использовать великую музыку не по назначению — Бетховен бы не был этому рад. Но можно использовать музыку и иначе, как это было после войны: молодые немецкие композиторы в Дармштадте, в Кёльне хотели подвести под музыку новую идейную основу. Музыка больше не воспринималась как волшебство — скорее как торжество креативной силы, как размышление и переживание, для которого не нужны слова, но нужен новый язык.
Сегодня же музыку вновь используют демагогическим образом, будь то музыка Вагнера или музыка Бетховена. Так люди отучаются думать и превращаются в стадо. В то же время, например, на чемпионате мира по футболу мы все вместе поём наш гимн. Это музыка не для слышания — она для того, чтобы у нас возникло чувство единения, гордости за свою страну. Почему нет? Для меня это не проблема, мне это по душе. Когда мы с детьми во время каникул ездили по Италии, мы в машине не пели додекафонную музыку, хоть это, возможно, и было неправильно. Мы пели: «Live is life, na-na, na, na-na» — так называемую лёгкую музыку. И её исполнителей я очень уважаю! Не только Морриконе — он был серьёзным композитором. Но это тоже работа, тоже ремесло и это тоже называется art, и они по праву называют себя artists.
И.О.: При этом многие представители мира академической музыки любые другие жанры презирают либо игнорируют.
Х.Л.: Нам всем следует быть более открытыми, я не только о музыке: благодаря «Турецкому рондо» Моцарта европейцы стали больше интересоваться другими культурами. Хотя и вряд ли стали лучше их понимать, обращая внимание в первую очередь на внешние черты, на привлекательную экзотику: в результате появился, например, «Арабский танец» Чайковского. Он никого не побуждает к тому, чтобы глубже узнать арабскую культуру. То же самое с китайской или японской: в Германии сейчас много композиторов из Японии, они используют японские инструменты, флейту сякухати, например, потому что у неё красивый звук, но пишут при этом додекафонную музыку, что абсолютно безумно, по-моему. Людям следует гораздо больше интересоваться тем, что они видят и что за этим стоит.
У меня пятеро детей, один из них занимается продажей картин. Когда-то он был в Америке, ходил в Карнеги-холл, где проводилась серия концертов для очень богатых дам. Они хотели слышать музыку, под которую им было бы приятно проводить время вместе. Почему нет? Столько красивой музыки! В программах были Сибелиус, Чайковский, Дворжак, Рахманинов, а на следующую они пригласили Пьера Булеза. (Смеётся.) Он прекрасно понял идею серии и начал с «Моря» Дебюсси — ещё один пример того, как музыка используется не по назначению, то есть для приятного досуга. А продолжил он «Весной священной» Стравинского. Сама по себе эта вещь для концертной программы не проблема, но перед её исполнением, как рассказал мне сын, Булез обратился к публике: «Перед тем, как мы начнём следующее сочинение, давайте послушаем, что происходит у альтов в начале второй части». И альты сыграли несколько тактов. «А теперь давайте послушаем пиццикато виолончели вместе с басовой флейтой». И они сыграли. Дамы были абсолютно счастливы и, более того, горды: они не просто хорошо провели время, но что-то открыли для себя, почувствовали креативную энергию композитора и дирижёра... Кажется, я говорю как автомат. Это ужасно. Да ещё и повторяюсь... я ведь сам немножко homo politicus.
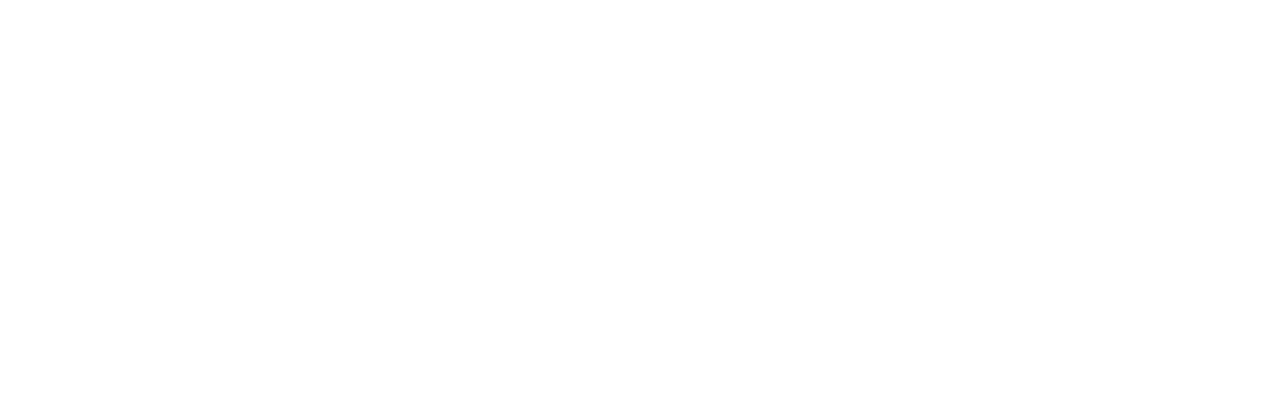
«Дирижёры вообще не понимали, чего я хочу», или Композитор и исполнитель
И.О.: Насколько важны для композитора преданные ему исполнители — такие, как Пьер-Лоран Эмар и Владимир Юровский в Вашем случае или, например, Наталия Гутман в случае Шнитке?
Х.Л.: Я счастлив, что есть те, кому нравится исполнять мою музыку, кто воспринимает её как своего рода спортивный вызов. Им приходится делать вещи, которым они никогда не учились в консерваториях. Скрежет может быть по-своему и красивым, он необязательно ужасен или противен. И музыканты постепенно проникаются этой идеей. Юровский же на репетициях очень внимателен, предельно сконцентрирован и готов потратить столько времени, сколько необходимо. Он также не против моих замечаний, чего дирижёры обычно не любят — это нервирует оркестрантов, да и дирижёров тоже. Тем более что у меня есть подробные указания почти к каждому такту.
Оркестранты не всегда понимают, что они делают и почему должны это делать, здесь важно не перегнуть палку. Один маленький пример — однажды как-то раз я сказал оркестру: «Сейчас piano слишком громкое, здесь должно быть pianissimo, даже piano pianissimo». Это не такое piano, как, скажем, в струнном квартете Моцарта, где оно заполняет звуком весь зал. В том месте, где я говорил, было написано piano, а я просил сыграть ещё слабее; мне ответили, что моё требование нелепо...
Поэтому обычно я стараюсь не делать замечаний оркестрантам, они этого не любят. А на репетиции Юровского подобных проблем не было. Он сам много говорил о том, что звучание должно быть ясным, в том числе когда речь о так называемых расширенных техниках. Например, когда piano указано у Малера или у Шёнберга, это очень красивый звук. Но в моем случае piano — это может быть не звук, а шорох смычка, касающегося подставки. Оркестр играет — я ничего не слышу; прошу их сыграть ещё раз — у меня же написано piano, а не «не слышно». Объяснил им, что я глуховат, попросил сыграть то же в версии для пожилых людей — и наконец услышал. В целом же атмосфера репетиций была очень сосредоточенной и в то же время умиротворённой. Оркестр любит Юровского — его способ работы на вид очень прост, очень ясен и в то же время невероятно музыкален.
Прошлым летом он исполнял очень важное для меня сочинение композитора, которого многие считают «непонятным», — «Струнный квартет и оркестр» Мортона Фелдмана. Солистами были мои друзья из Ардитти-квартета, и виолончелист Лукас Фельс очень воодушевлённо рассказывал мне, как тщательно работал Владимир — совсем по-другому, чем над моими сочинениями. К каждому произведению он ищет свой подход — вместо стандартного метода работы, позволяющего на среднем уровне отрепетировать что угодно. Такие дирижёры мне нужны! А полвека назад они вообще не понимали, чего я от них хочу. Один польский дирижёр репетировал Accanto, и музыканты буквально ненавидели то, что вынуждены были делать: я предлагал переименовать свое сочинение в «Аллергию 1» или «Аллергию 2» — я слышал не свою музыку, а исключительно их ненависть. Дирижёру было неловко, он просил прощения, говорил: «Я понимаю, вы композитор со своей идеей, музыканты не хотят её воплощать, но я их попрошу ещё раз, скажу, что вы такой приятный человек...». «Никакой я не приятный, — говорю. — Просто сыграйте, что я написал!»
И.О.: Сыграли?
Х.Л.: Более или менее. Теперь прошло больше сорока лет. В течение этого времени американским оркестрам, например, было не так просто сыграть мою музыку — лишь в силу того, как там устроены репетиции. В Америке оркестрант не приходит на репетицию с идеей научиться там чему-нибудь новому — а именно таким должно быть отношение музыканта, особенно молодого: он должен научиться тому, чтобы постоянно учиться! Научиться множеству вещей, если он исполняет сочинение Веберна или Булеза; научиться понимать, что отличает именно эту музыку от других. Когда же оркестр под управлением Юровского играл Шостаковича, у них было совершенно другое отношение — они были готовы отдать все свои силы. Моему сочинению — тоже, но с другим отношением к деталям, с другим пониманием.
С Юровским можно сравнить Петера Этвёша (но его уже нет в живых) — тот же высочайший уровень понимания, к тому же он сам был композитором и мог стать на точку зрения автора. Из мастеров более старшего поколения — Михаэль Гилен, он тоже всё прекрасно понимал, но любил оскорблять музыкантов, которые не шли за ним, и это не улучшало атмосферу репетиций. В общем, Юровский великолепен — уж не знаю, как он стал таким. Других российских дирижёров я почти не знал, кроме Арнольда Каца — с того концерта в Новосибирске. Не знаю, он жив?
И.О.: Нет, к сожалению.
Х.Л.: Понятно, жаль. Но это было отличное время, много историй вспоминается. Например, в 1990-м мне предстоял ночной перелёт из Петербурга в Новосибирск. Со мной была очень красивая переводчица, мы сидели рядом в самолете. А вокруг было много сельских жителей с домашними животными, и все они громко храпели. И я должен был объяснить Людмиле — так её звали, — что я хочу сказать музыкантам: если написано «беззвучно», говорю, так это и надо играть — и изображаю голосом. Чтобы не мешать соседям, я придвинулся к ней совсем близко, мы в тот момент почти породнились. (Смеётся.) Вероятно, мы казались странной парой — старый муж храпит жене прямо в ухо! А в результате, как я уже сказал, музыканты сделали всё, что могли. Не так, как я бы ожидал, но почему нет? Я принял и такой вариант. Это лучше, чем когда молодые исполнители оказываются куда более зашоренными, чем коллеги поколения их родителей, как часто бывает сегодня. Только закончили консерваторию — и уже объясняют, почему никогда не будут играть Лахенмана или петь такую-то песню.
А бывает и так, что высокомерие показывают оркестранты постарше. О моём опыте работы с оркестрами впору писать книгу: если ты имеешь дело с солистом, он вкладывается в исполнение целиком и делает всё, что ты просишь. Но если это группа из 16 скрипачей, приходится очень постараться, чтобы объяснить им, чего ты хочешь. Особенно в Риме, где привыкли всё играть очень красивым звуком. Оркестр — очень старомодный институт; конечно же, они предпочитают играть симфонию, которую играли уже много раз. А ты заставляешь их учиться заново. Вот почему мне были необходимы групповые репетиции — Юровский показал себя мастером и в этом, когда назначил репетицию только для струнных. Иначе духовики сидели бы вокруг и не знали бы, чем заняться. С нетерпением жду следующей возможности сотрудничества с Юровским, пока же я абсолютно счастлив тем, как оно сложилось. Я был также очень доволен тем, как Петер Этвёш провёл премьеру моего последнего сочинения для восьми валторн и оркестра My Melodies...
И.О.: Кстати, в нынешнем сезоне в Московской филармонии запланирована его российская премьера.
Х.Л.: Любопытно... Когда я учился у Луиджи Ноно, о том, чтобы написать мелодию, было и думать нечего: Ноно находил это буржуазным и контролировал меня, как инквизитор! Даже если речь шла о том, что один и тот же инструмент играет две соседние ноты, это уже было нельзя — это же зародыш мелодии! И после шести недель занятий с ним в Венеции я сказал ему, что еду домой и что я, наверное, не композитор, раз у меня всё получается так буржуазно. И лучше мне учиться математике или чему-то в этом роде. А потом передумал и понял, что должен остаться: преподавание само по себе борьба, и я должен символически убить своего учителя. После чего полюбил его ещё больше. На самом деле научить композиции нельзя, невозможно. Как правило, молодой композитор полон идей, которые принадлежат не ему; он полон влияний разной музыки и хочет писать такую же хорошую. Учитель же должен опустошить ученика; вначале это будет стоить тому депрессии, но потом он увидит, что оно того стоило. Этой философии я научился у Ноно.
Сегодня же, в конце жизни, я создал My Melodies. Когда что-то тебе запрещено, ты непременно должен это сделать, найдя хорошую причину. Папе Римскому и тому раз в жизни стоит приложиться к бутылке; можете эту шутку не записывать. Мы, европейцы, живём в абсолютном филармоническом раю; если не хотите потерять себя, найдите в нём запретный плод и съешьте его! Обучение композиции можно сравнить с производством автомобилей. Люди думают, что, раз они прошли обучение, то смогут построить автомобиль не хуже других. Но чтобы он получился вашим собственным, надо в том числе научиться ломать автомобили для начала. Это важный, я бы сказал, великий процесс, и тогда публика оценит вашу музыку. Хотя смотря как оценивать... У меня часто повторяется такая история: сыграли мою пьесу, слушатели подходят и говорят: «О, ваша музыка такая интересная!». А я очень сержусь и отвечаю: «Если я скажу жене, что люблю её, а она ответит мне, что это интересно, то говорить дальше не о чем». (Смеётся.) Но если кто-то скажет мне «Это вообще не музыка», здесь есть о чем говорить, этого человека я бы попробовал переубедить: он, вероятно, любит музыку, поэтому чем-то сильно возмущён. И тогда можно попробовать найти, чем же именно.
Мне рассказывали такую историю. Однажды оркестр репетировал одну из частей «Гимнов» Штокхаузена. И все виолончелисты сказались больными — они не хотели это играть! Пригласили других, постарше, и там был 70-летний виолончелист, который смотрел в ноты и не понимал ничего. Он встал и сказал: «Уважаемый господин Штокхаузен, я играю 60 лет, я люблю музыку, столько её сыграл, но это не музыка, и почему я должен её играть, объясните?». Штокхаузен ответил: «Чтобы оставаться молодым». Прекрасный ответ, лучше не придумаешь! Музыканты стали смеяться, и атмосфера разрядилась. У меня тоже были проблемы с исполнителями, с критиками, с хейтерами, тем более что моим учителем был коммунист... из-за этого мне не доверяли, из-за этого не везде я мог преподавать, считаясь идеологически неблагонадежным. Но всё это я пережил, чувствую себя по-прежнему хорошо и испытываю благодарность по отношению ко всему, что было.
Х.Л.: Я счастлив, что есть те, кому нравится исполнять мою музыку, кто воспринимает её как своего рода спортивный вызов. Им приходится делать вещи, которым они никогда не учились в консерваториях. Скрежет может быть по-своему и красивым, он необязательно ужасен или противен. И музыканты постепенно проникаются этой идеей. Юровский же на репетициях очень внимателен, предельно сконцентрирован и готов потратить столько времени, сколько необходимо. Он также не против моих замечаний, чего дирижёры обычно не любят — это нервирует оркестрантов, да и дирижёров тоже. Тем более что у меня есть подробные указания почти к каждому такту.
Оркестранты не всегда понимают, что они делают и почему должны это делать, здесь важно не перегнуть палку. Один маленький пример — однажды как-то раз я сказал оркестру: «Сейчас piano слишком громкое, здесь должно быть pianissimo, даже piano pianissimo». Это не такое piano, как, скажем, в струнном квартете Моцарта, где оно заполняет звуком весь зал. В том месте, где я говорил, было написано piano, а я просил сыграть ещё слабее; мне ответили, что моё требование нелепо...
Поэтому обычно я стараюсь не делать замечаний оркестрантам, они этого не любят. А на репетиции Юровского подобных проблем не было. Он сам много говорил о том, что звучание должно быть ясным, в том числе когда речь о так называемых расширенных техниках. Например, когда piano указано у Малера или у Шёнберга, это очень красивый звук. Но в моем случае piano — это может быть не звук, а шорох смычка, касающегося подставки. Оркестр играет — я ничего не слышу; прошу их сыграть ещё раз — у меня же написано piano, а не «не слышно». Объяснил им, что я глуховат, попросил сыграть то же в версии для пожилых людей — и наконец услышал. В целом же атмосфера репетиций была очень сосредоточенной и в то же время умиротворённой. Оркестр любит Юровского — его способ работы на вид очень прост, очень ясен и в то же время невероятно музыкален.
Прошлым летом он исполнял очень важное для меня сочинение композитора, которого многие считают «непонятным», — «Струнный квартет и оркестр» Мортона Фелдмана. Солистами были мои друзья из Ардитти-квартета, и виолончелист Лукас Фельс очень воодушевлённо рассказывал мне, как тщательно работал Владимир — совсем по-другому, чем над моими сочинениями. К каждому произведению он ищет свой подход — вместо стандартного метода работы, позволяющего на среднем уровне отрепетировать что угодно. Такие дирижёры мне нужны! А полвека назад они вообще не понимали, чего я от них хочу. Один польский дирижёр репетировал Accanto, и музыканты буквально ненавидели то, что вынуждены были делать: я предлагал переименовать свое сочинение в «Аллергию 1» или «Аллергию 2» — я слышал не свою музыку, а исключительно их ненависть. Дирижёру было неловко, он просил прощения, говорил: «Я понимаю, вы композитор со своей идеей, музыканты не хотят её воплощать, но я их попрошу ещё раз, скажу, что вы такой приятный человек...». «Никакой я не приятный, — говорю. — Просто сыграйте, что я написал!»
И.О.: Сыграли?
Х.Л.: Более или менее. Теперь прошло больше сорока лет. В течение этого времени американским оркестрам, например, было не так просто сыграть мою музыку — лишь в силу того, как там устроены репетиции. В Америке оркестрант не приходит на репетицию с идеей научиться там чему-нибудь новому — а именно таким должно быть отношение музыканта, особенно молодого: он должен научиться тому, чтобы постоянно учиться! Научиться множеству вещей, если он исполняет сочинение Веберна или Булеза; научиться понимать, что отличает именно эту музыку от других. Когда же оркестр под управлением Юровского играл Шостаковича, у них было совершенно другое отношение — они были готовы отдать все свои силы. Моему сочинению — тоже, но с другим отношением к деталям, с другим пониманием.
С Юровским можно сравнить Петера Этвёша (но его уже нет в живых) — тот же высочайший уровень понимания, к тому же он сам был композитором и мог стать на точку зрения автора. Из мастеров более старшего поколения — Михаэль Гилен, он тоже всё прекрасно понимал, но любил оскорблять музыкантов, которые не шли за ним, и это не улучшало атмосферу репетиций. В общем, Юровский великолепен — уж не знаю, как он стал таким. Других российских дирижёров я почти не знал, кроме Арнольда Каца — с того концерта в Новосибирске. Не знаю, он жив?
И.О.: Нет, к сожалению.
Х.Л.: Понятно, жаль. Но это было отличное время, много историй вспоминается. Например, в 1990-м мне предстоял ночной перелёт из Петербурга в Новосибирск. Со мной была очень красивая переводчица, мы сидели рядом в самолете. А вокруг было много сельских жителей с домашними животными, и все они громко храпели. И я должен был объяснить Людмиле — так её звали, — что я хочу сказать музыкантам: если написано «беззвучно», говорю, так это и надо играть — и изображаю голосом. Чтобы не мешать соседям, я придвинулся к ней совсем близко, мы в тот момент почти породнились. (Смеётся.) Вероятно, мы казались странной парой — старый муж храпит жене прямо в ухо! А в результате, как я уже сказал, музыканты сделали всё, что могли. Не так, как я бы ожидал, но почему нет? Я принял и такой вариант. Это лучше, чем когда молодые исполнители оказываются куда более зашоренными, чем коллеги поколения их родителей, как часто бывает сегодня. Только закончили консерваторию — и уже объясняют, почему никогда не будут играть Лахенмана или петь такую-то песню.
А бывает и так, что высокомерие показывают оркестранты постарше. О моём опыте работы с оркестрами впору писать книгу: если ты имеешь дело с солистом, он вкладывается в исполнение целиком и делает всё, что ты просишь. Но если это группа из 16 скрипачей, приходится очень постараться, чтобы объяснить им, чего ты хочешь. Особенно в Риме, где привыкли всё играть очень красивым звуком. Оркестр — очень старомодный институт; конечно же, они предпочитают играть симфонию, которую играли уже много раз. А ты заставляешь их учиться заново. Вот почему мне были необходимы групповые репетиции — Юровский показал себя мастером и в этом, когда назначил репетицию только для струнных. Иначе духовики сидели бы вокруг и не знали бы, чем заняться. С нетерпением жду следующей возможности сотрудничества с Юровским, пока же я абсолютно счастлив тем, как оно сложилось. Я был также очень доволен тем, как Петер Этвёш провёл премьеру моего последнего сочинения для восьми валторн и оркестра My Melodies...
И.О.: Кстати, в нынешнем сезоне в Московской филармонии запланирована его российская премьера.
Х.Л.: Любопытно... Когда я учился у Луиджи Ноно, о том, чтобы написать мелодию, было и думать нечего: Ноно находил это буржуазным и контролировал меня, как инквизитор! Даже если речь шла о том, что один и тот же инструмент играет две соседние ноты, это уже было нельзя — это же зародыш мелодии! И после шести недель занятий с ним в Венеции я сказал ему, что еду домой и что я, наверное, не композитор, раз у меня всё получается так буржуазно. И лучше мне учиться математике или чему-то в этом роде. А потом передумал и понял, что должен остаться: преподавание само по себе борьба, и я должен символически убить своего учителя. После чего полюбил его ещё больше. На самом деле научить композиции нельзя, невозможно. Как правило, молодой композитор полон идей, которые принадлежат не ему; он полон влияний разной музыки и хочет писать такую же хорошую. Учитель же должен опустошить ученика; вначале это будет стоить тому депрессии, но потом он увидит, что оно того стоило. Этой философии я научился у Ноно.
Сегодня же, в конце жизни, я создал My Melodies. Когда что-то тебе запрещено, ты непременно должен это сделать, найдя хорошую причину. Папе Римскому и тому раз в жизни стоит приложиться к бутылке; можете эту шутку не записывать. Мы, европейцы, живём в абсолютном филармоническом раю; если не хотите потерять себя, найдите в нём запретный плод и съешьте его! Обучение композиции можно сравнить с производством автомобилей. Люди думают, что, раз они прошли обучение, то смогут построить автомобиль не хуже других. Но чтобы он получился вашим собственным, надо в том числе научиться ломать автомобили для начала. Это важный, я бы сказал, великий процесс, и тогда публика оценит вашу музыку. Хотя смотря как оценивать... У меня часто повторяется такая история: сыграли мою пьесу, слушатели подходят и говорят: «О, ваша музыка такая интересная!». А я очень сержусь и отвечаю: «Если я скажу жене, что люблю её, а она ответит мне, что это интересно, то говорить дальше не о чем». (Смеётся.) Но если кто-то скажет мне «Это вообще не музыка», здесь есть о чем говорить, этого человека я бы попробовал переубедить: он, вероятно, любит музыку, поэтому чем-то сильно возмущён. И тогда можно попробовать найти, чем же именно.
Мне рассказывали такую историю. Однажды оркестр репетировал одну из частей «Гимнов» Штокхаузена. И все виолончелисты сказались больными — они не хотели это играть! Пригласили других, постарше, и там был 70-летний виолончелист, который смотрел в ноты и не понимал ничего. Он встал и сказал: «Уважаемый господин Штокхаузен, я играю 60 лет, я люблю музыку, столько её сыграл, но это не музыка, и почему я должен её играть, объясните?». Штокхаузен ответил: «Чтобы оставаться молодым». Прекрасный ответ, лучше не придумаешь! Музыканты стали смеяться, и атмосфера разрядилась. У меня тоже были проблемы с исполнителями, с критиками, с хейтерами, тем более что моим учителем был коммунист... из-за этого мне не доверяли, из-за этого не везде я мог преподавать, считаясь идеологически неблагонадежным. Но всё это я пережил, чувствую себя по-прежнему хорошо и испытываю благодарность по отношению ко всему, что было.
«Мой до мажор шокирует не меньше, чем мои шумы», или Берлинский воздух
И.О.: Кто из современных композиторов привлекает Ваше внимание?
Х.Л.: Ответить не так легко — если я кого-то забуду, они могут обидеться. Но некоторых назову, в том числе из числа своих учеников. Например, Марк Андре: глубоко безумный, глубоко верующий и глубоко одинокий. Можно назвать тех, кто на него повлиял, но это неважно — его музыка действует очень сильно, я не раз наблюдал, как она трогает публику. Из старшего поколения — Вольфганг Рим, Брайан Фернейхоу, из более младшего — Ребекка Саундерс, Энно Поппе, всех их я очень уважаю, каждый из них идёт своим путём, своей улицей. Наконец, Филипп Манури, а ещё целая группа английских композиторов, пишущих просто отличную музыку. Эстетически это может быть далеко от меня, но слава Богу, что все они такие разные, было бы ужасно, будь наоборот.
Очень симпатичен мне также Пьерлуиджи Биллоне, он живёт в Вене. Он пришёл ко мне учиться, по-видимому, потому что ему были близки мои расширенные техники. Но он продвинулся на этом пути гораздо дальше. Для исполнения его сочинения ещё сложнее моих, порой это просто безумие... Многие композиторы сегодня используют приёмы, которые нашёл или развил я, и делают это куда «разумнее» меня, но результат меня совершенно не трогает. Другое дело, что никакой the music — музыки в едином для всех понимании — сегодня больше нет. Каждый композитор в каждом сочинении даёт свой ответ на вопрос, что такое музыка и какою ей быть. Она больше не стандартизирована. Во времена Баха был генерал-бас, все использовали его и знали — вот она музыка. Когда Моцарт писал в ми мажоре, он знал, что до него ми мажор таким же образом понимал Гайдн. Потом появились романтики... Однажды мы поругались с женой Маурицио Поллини, когда я сказал, что после Бетховена композиторы превратились в аранжировщиков.
Ми мажор один и тот же в «Волшебной флейте» Моцарта и во вступлении к «Золоту Рейна» Вагнера, только у Вагнера он длится дольше, целых пять минут. Но таким образом возникают новый звук, новый тип слушания. Правда, я опять превращаюсь в машину, повторяющую одно и то же... Композитор Ханс Вернер Хенце называл меня учеником Адорно, у того была «негативная диалектика», у меня же, дескать, «негативная музыка». Он говорил мне, что я не бываю счастлив, когда пишу музыку. Я отвечал ему, что он прав, что я в этот момент не счастлив (happy), но — glücklich. Happy — это значит забыть обо всех трудностях, glücklich — это значит быть выше них, быть сильнее, верить в себя. Он был задет, но я искренне не желаю вам быть happy, хотя это приятно, но быть glücklich. Теперь точно хватит — я уже говорю, как священник. Мой отец был священником, и я начинаю говорить в том же духе.
И.О.: Последний вопрос. В 2022 году на открытии московского фестиваля «Возвращение» состоялась российская премьера вашего сочинения Sakura mit Berliner Luft («Сакура и берлинский воздух») для саксофона, фортепиано и ударных. По ней, как и по Marche Fatale, совершенно невозможно догадаться, что она принадлежит вам; как она родилась?
Х.Л.: Такие сумасшедшие вещи рождаются, когда я импровизирую за роялем. Просто для удовольствия. Импровизировать в додекафонной технике я не могу, это было бы ещё безумнее. Можно, конечно, играть кластерами, но моя внучка точно так же может играть кластерами, и это было бы даже мило. А люди слышат и удивляются: все же знают, что «Лахенман пишет одни шумы». И такая пьеса вызывает полнейший шок: получается, мой до мажор или до минор могут шокировать не меньше, чем мои шумы! «Берлинский воздух» — это марш Пауля Линке, был такой композитор, писал оперетты, в одной из них звучит этот марш. Ничего серьёзного в этом сочинении нет. А теперь я действительно немного устал. Приезжайте в Италию! Мы подружились с Сергеем Невским, он собирается ко мне в гости. Если можете, присоединяйтесь.
Х.Л.: Ответить не так легко — если я кого-то забуду, они могут обидеться. Но некоторых назову, в том числе из числа своих учеников. Например, Марк Андре: глубоко безумный, глубоко верующий и глубоко одинокий. Можно назвать тех, кто на него повлиял, но это неважно — его музыка действует очень сильно, я не раз наблюдал, как она трогает публику. Из старшего поколения — Вольфганг Рим, Брайан Фернейхоу, из более младшего — Ребекка Саундерс, Энно Поппе, всех их я очень уважаю, каждый из них идёт своим путём, своей улицей. Наконец, Филипп Манури, а ещё целая группа английских композиторов, пишущих просто отличную музыку. Эстетически это может быть далеко от меня, но слава Богу, что все они такие разные, было бы ужасно, будь наоборот.
Очень симпатичен мне также Пьерлуиджи Биллоне, он живёт в Вене. Он пришёл ко мне учиться, по-видимому, потому что ему были близки мои расширенные техники. Но он продвинулся на этом пути гораздо дальше. Для исполнения его сочинения ещё сложнее моих, порой это просто безумие... Многие композиторы сегодня используют приёмы, которые нашёл или развил я, и делают это куда «разумнее» меня, но результат меня совершенно не трогает. Другое дело, что никакой the music — музыки в едином для всех понимании — сегодня больше нет. Каждый композитор в каждом сочинении даёт свой ответ на вопрос, что такое музыка и какою ей быть. Она больше не стандартизирована. Во времена Баха был генерал-бас, все использовали его и знали — вот она музыка. Когда Моцарт писал в ми мажоре, он знал, что до него ми мажор таким же образом понимал Гайдн. Потом появились романтики... Однажды мы поругались с женой Маурицио Поллини, когда я сказал, что после Бетховена композиторы превратились в аранжировщиков.
Ми мажор один и тот же в «Волшебной флейте» Моцарта и во вступлении к «Золоту Рейна» Вагнера, только у Вагнера он длится дольше, целых пять минут. Но таким образом возникают новый звук, новый тип слушания. Правда, я опять превращаюсь в машину, повторяющую одно и то же... Композитор Ханс Вернер Хенце называл меня учеником Адорно, у того была «негативная диалектика», у меня же, дескать, «негативная музыка». Он говорил мне, что я не бываю счастлив, когда пишу музыку. Я отвечал ему, что он прав, что я в этот момент не счастлив (happy), но — glücklich. Happy — это значит забыть обо всех трудностях, glücklich — это значит быть выше них, быть сильнее, верить в себя. Он был задет, но я искренне не желаю вам быть happy, хотя это приятно, но быть glücklich. Теперь точно хватит — я уже говорю, как священник. Мой отец был священником, и я начинаю говорить в том же духе.
И.О.: Последний вопрос. В 2022 году на открытии московского фестиваля «Возвращение» состоялась российская премьера вашего сочинения Sakura mit Berliner Luft («Сакура и берлинский воздух») для саксофона, фортепиано и ударных. По ней, как и по Marche Fatale, совершенно невозможно догадаться, что она принадлежит вам; как она родилась?
Х.Л.: Такие сумасшедшие вещи рождаются, когда я импровизирую за роялем. Просто для удовольствия. Импровизировать в додекафонной технике я не могу, это было бы ещё безумнее. Можно, конечно, играть кластерами, но моя внучка точно так же может играть кластерами, и это было бы даже мило. А люди слышат и удивляются: все же знают, что «Лахенман пишет одни шумы». И такая пьеса вызывает полнейший шок: получается, мой до мажор или до минор могут шокировать не меньше, чем мои шумы! «Берлинский воздух» — это марш Пауля Линке, был такой композитор, писал оперетты, в одной из них звучит этот марш. Ничего серьёзного в этом сочинении нет. А теперь я действительно немного устал. Приезжайте в Италию! Мы подружились с Сергеем Невским, он собирается ко мне в гости. Если можете, присоединяйтесь.
ЭКСПРЕССИВНАЯ НЕЭКСПРЕССИВНОСТЬ: КАК ЗВУКИ МОГУТ РАССКАЗЫВАТЬ ИСТОРИИ?
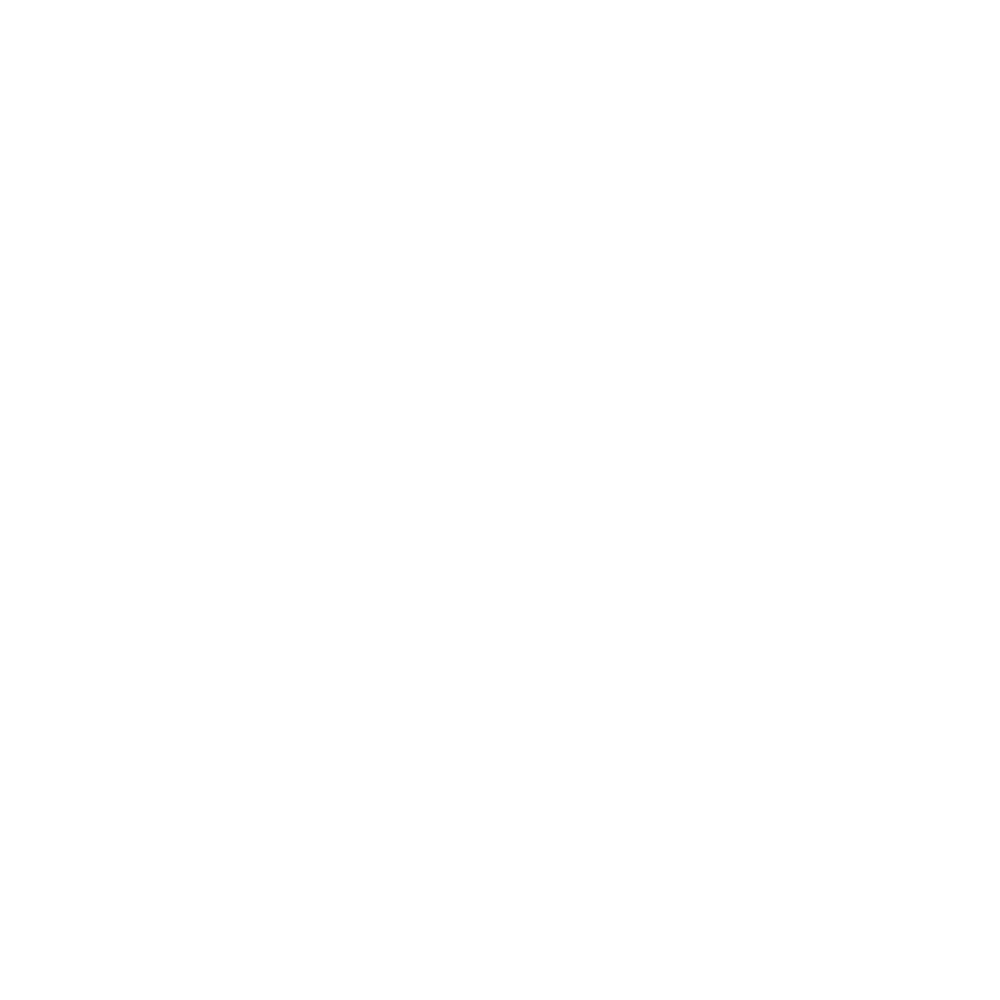
Юрий Виноградов
Философ, пианист-импровизатор, саундпродюсер, ведущий телеграм-канала о философии музыки "Механика звука", куратор лейблов Contempora Music и Аутсайдервиль. Закончил факультет философии ГАУГН при Институте Философии РАН в 2013 году.
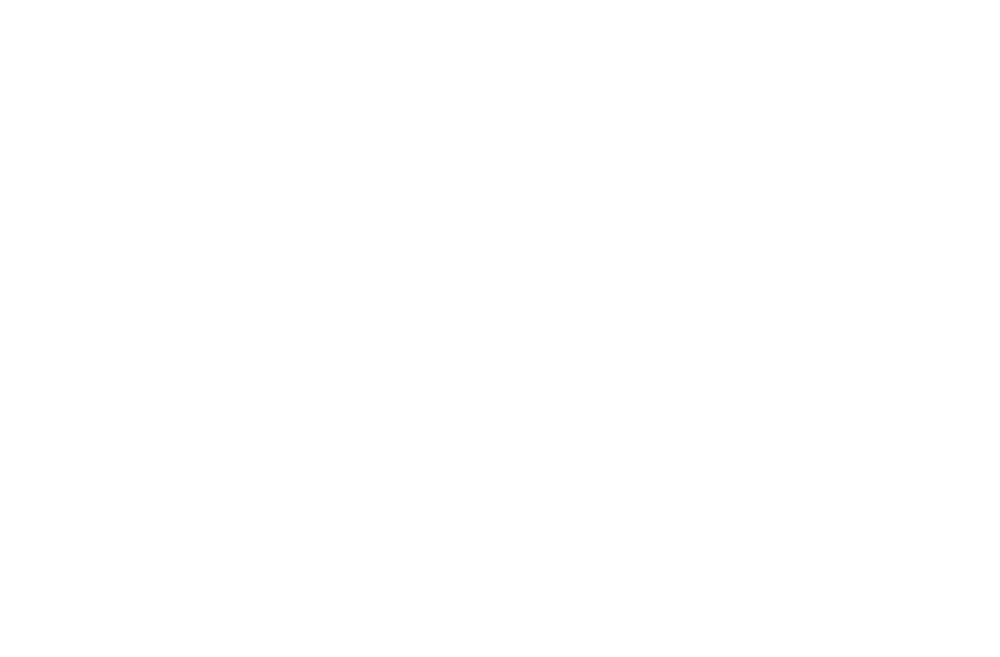
Композиция VII (1913) Василия Кандинского
Музыка — эта экспрессивная неэкспрессивность, речь обо всём и ни о чём конкретно — имеет дело с невыразимым более плотно, чем прочие плоды объективного духа, чем прочие сферы искусства и культуры. Даже самая структурированная, ясная, прозрачная, моцартианская музыка не исчерпывается до дна словами, рациональным подходом. Что уж говорить про современную музыку с достаточно аморфными, неопределенными структурами — это не барочная фуга или классическая соната, которые рядились в одежды рациональности в соответствии со своей эпохой.
Вторая половина XIX века и XX век — эпоха краха идей панрационализма, представления о том, что реальность, в том числе культурная, социальная, может быть описана и объяснена с помощью разума, логики, системы. Не случайно именно в это время в философию возвращается интерес к музыке, а не к визуальным искусствам.
В эту эпоху философскую систему, вроде гегелевской, начиная с Ницше и Кьеркегора, начинают подозревать в неискренности, подтасовках и обеднении человеческого образа и жизни. В жизни есть место иррациональному, непроницаемому, тому, что сопротивляется всякому анализу, тому, что, по словам Витгенштейна, себя лишь показывает, но не может быть объяснено и описано. И тем не менее даже само невыразимое вплетается в повествования, которые мы слышим даже в самой абстрактной музыке. Нечто делает музыку, которая не является языком, не принадлежит полностью к сфере рацио, частью субъективного опыта, который, в конечном счёте, может быть описан.
Музыка способна вызывать в нас глубокие эмоции, переносить в иные состояния, которые мы сами в данный момент не испытываем, рассказывать истории без единого слова. Но что именно и как она рассказывает? Философия музыки пытается найти ответ на этот вопрос, и в центре её поисков неизменно оказывается феномен абсолютной музыки — инструментальной музыки, не связанной с текстом, программой или сюжетом. Music alone, в отличие от music together, по выражению философа музыки Питера Киви, — это музыка без внемузыкальных компонентов, без слов, без визуального сопровождения, наконец, без программы или прописанного внешнего нарратива. Music alone и music together — скорее идеальные полюсы; даже чистая инструментальная музыка, вроде сонат и фортепианных сочинений Сальваторе Шаррино, содержащих в себе призраки прошлого (многочисленные руины и цитаты из Брамса, Баха и Равеля, к примеру) и тонкую тембральную работу, окружена орнаментом слов, идей и обстоятельств, которые, конечно, диктуют нам свои интерпретации. Понятие «music alone» близко к более старому и почтенному понятию абсолютной музыки, подробно разработанному ещё в дискуссии Рихарда Вагнера и Эдуарда Ганслика.
Эдуард Ганслик писал в трактате «О прекрасном в музыке» (1854):
«Музыка состоит из звукорядов, звукоформ. Они не имеют никакого другого содержания, кроме самих себя. При том что эффект, производимый музыкальной пьесой, каждый оценивает и обозначает словами в меру своей индивидуальности, никакого содержания того же самого, кроме как воспринятые слухом звукоформы, нет — ведь музыка говорит не просто через звуки, она только звуки и говорит».
Вопрос об абсолютной музыке — один из вопросов философии музыки. Эта дисциплина относится к так называемым философиям родительного падежа — подобно философии права или философии науки. Это означает, что у её предмета есть относительно чёткие границы и устоявшаяся практика словоупотребления. Есть некоторая повседневная ясность, что такое музыка, хотя попытки дать чёткое определение этому феномену и приводят нас к философии музыки. Каждый вроде бы знает, о чём он говорит, когда говорит о музыке, но попытки чётко дать определение музыкальному обычно приводят к некоторому замешательству.
Музыка, возможно, содержит больше, чем другие искусства, философских загадок. Загадкой становится инстанция существования — где и как существует музыка? Не до конца ясно и то, чем является музыкальное произведение. В отличие от живописи, у музыки нет объективных инстанций существования, нет картин. Является ли основной инстанцией нотный текст или конкретная звучащая интерпретация? А как быть с импровизацией? Что такое музыка, как её определить? Каковы отношения музыки с истиной и ценностями?
Философия музыки исследует природу музыки, её ценность и, что особенно важно, парадокс её выразительности. Каким образом последовательности звуков, лишенные словесного смысла, темпоральные и эфемерные, могут быть столь мощно эмоционально насыщенными и что-то нам сообщать? Многие философы музыки (в частности, Питер Киви или Владимир Янкелевич) отрицают языковую природу музыки. Музыка для таких философов не является языком, в ней нет определенной семантики, нет устойчивых минимальных смысловых единиц. Кроме того, музыка неспособна, в отличие от языка, строить фактуальные высказывания и передавать образы фактов — попробуйте с помощью музыки понятным образом рассказать кому-то, скажем, о том, что скорость света является предельной для нашего мира. Когда музыка начинает обслуживать коммуникацию (как, скажем, азбука Морзе), она перестаёт быть музыкой, становится лишь сигналами.
Почему философия музыки проявляет особый интерес именно к абсолютной, чистой инструментальной музыке? Причина этого не в снобизме, не в желании игнорировать другие формы бытования музыки, а в методологической чистоте. Такая концентрация позволяет выйти к непосредственным философским проблемам музыки. Программная музыка или вокальные жанры (опера, романс) всегда могут опереться на вербальный компонент — текст, название, сюжет. Их выразительность отчасти объясняется этим союзом со словом. Они обслуживают выраженную внешним образом историю — необязательно некий сюжет, но, например, историю о травме и её преодолении или историю об идентичности, что часто бывает в современной академической музыке. Наконец, как в Harmonielehre Джона Адамса (1985), музыка может рассказывать историю самой музыки и выражать саму внутреннюю историческую диалектику музыкального искусства (в данном случае — примирять минимализм и хроматическую гармонию fin-de-siècle). Другой пример нарратива о музыкальной истории, поданного средствами музыки, — Swing Symphony Уинтона Марсалиса.
Абсолютная же музыка — это музыка в её самом чистом, практически лабораторном виде. Она ставит проблему выразительности в острой форме: если музыка ничего не «изображает» и ни о чём напрямую не «говорит», как, скажем, фуга, если в ней нет вербального компонента, то как и что она может нам сообщать? Что это за «истории» без конкретных героев и событий, которые мы так явственно слышим в симфониях Бетховена — или в этюдах Гласса и симфониях Гленна Бранки? Кто является действующим субъектом музыкального повествования?
Ответ, возможно, лежит в сфере самого устройства нашего сознания — и того, как оно отражает мир (или конструирует). Обратимся к одному из более ранних философских примеров. Немецкий философ Артур Шопенгауэр предлагал взглянуть на музыку не как на рассказ о конкретных вещах — даже о звуках, а как на отражение самой логической сути мира. Он считал, что музыка относится к всеобщим понятиям (идеям) так же, как те относятся к отдельным вещам. Она является прямой объективацией мировой воли, первопричины всех явлений. Проще говоря, музыка — это «речь обо всём и ни о чём конкретно», она воплощает в своих формах (не важно, тяготеем ли мы к Шопенгауэру или аналитической философии) базовые каркасы и диалектику мира — или языка.
Абсолютная музыка — это не история о любви или борьбе. Если это и трагедия, то это трагедия, пользуясь образом Фридриха Ницше, «разлада в самом сердце Первоединого», изначального конфликта между неподвижным единством и процессуальным множеством. Это история о самом движении, развитии, конфликте и разрешении, то есть о самых базовых компонентах и формах любого построения нарратива. Это нарратив о том, как вообще строятся любые нарративы. Всеобщая история об историях, наиболее абстрактная форма повествования, его идея. В классической музыке, к примеру в сонате, мы слышим зарождение и развитие темы, её борьбу с противоборствующими силами (побочными темами), кульминацию, трансформацию и финальное разрешение. В современной музыке могут господствовать иные формы процессуальности, например контингентность, постоянная изменчивость, размывающая всякую определённость, или, напротив, репетитивность, в которой малейшее изменение становится событием тектонического масштаба. Это чистая драматургия, содержащая скелет любого возможного повествования. Как и любое произведение искусства, самоценное и не нуждающееся во внешнем обосновании, музыка не отображается в качестве локального и отдельного, а выражает жизнь как тотальную целостность. Поэтому музыкальное произведение — это всеобщность жизни, проявившаяся в движении звуковых форм.
Но почему мы вообще склонны слышать в этих абстрактных структурах «истории», наполнять их с помощью нашего воображения сюжетами и образами, то есть вербализуемым материалом? Это такая же фундаментальная особенность человеческого восприятия, как и парейдолия — способность видеть знакомые образы (например, лица) в случайных формах облаков, трещин на камне или узорах ветвей. Этот феномен находит объяснение в современных нейробиологических исследованиях. Наше восприятие креативно и активно (и эта мысль властвует над европейской эпистемологией начиная ещё с Канта), мозг не просто пассивно воспринимает звук, а активно предвосхищает его развитие, ищет в нём знакомые силуэты, интерпретирует его и ассоциирует его с другими образами и опытом, содержащимся в памяти и других функциях сознания. Композиторы, иногда интуитивно, но чаще осознанно, играют с этими ожиданиями: создают напряжение через диссонанс или задержку разрешения и дарят катарсис, когда ожидание наконец удовлетворяется. Или, напротив, максимально избегают всякого ответа — напряжение нарастает до невыносимости и делает ответ на вопрос, которого так и не случается, делом метафизического масштаба. Этот механизм — «вопрос — ответ», «проблема — решение» — является простейшей нарративной единицей, протонарративом. Таким образом, музыка рассказывает истории потому, что её временная структура напрямую резонирует с фундаментальными когнитивными паттернами, с помощью которых мы осмысливаем любой поток событий в нашей жизни.
Ролан Барт утверждал безграничное существование нарративов:
«Нарратив существует во все эпохи, во всех местах, во всех обществах; нарратив, повествование начинается вместе с самой историей человечества; не существует и никогда не существовало ни одного народа без нарративов…»
Начиная с 1980-х годов, старый вопрос о нарративности музыки возвращается в дискуссии о философии музыки. Разработки нарратологии, литературоведческой дисциплины, пытаются применять для объяснения способности музыки рассказывать истории — или протоистории. Некоторые теоретики нарратологии разделяют в нарративе саму историю и дискурсивную компоненту. История — это события, происходящее с персонажами, материал, каузальные цепи, «что» нарратива. Дискурс — это стиль, позиция нарратора, подразумеваемый наблюдатель, «как» нарратива. В случае с музыкой, «что» крайне размыто; мы можем услышать в первой части Второй симфонии Малера приближение чего-то угрожающего, но что за угроза, кто подвержен угрозе, как они оказались в некотором «здесь» — непонятно, это ускользает. Музыкальные нарративы, таким образом, это дискурсы без материи, именно этим объясняется такая индивидуальность образов, историй, интерпретаций музыкальных произведений разными людьми.
Музыка сложным образом обрабатывается нашим активным мозгом (в том числе, после обработки звука слуховой корой в височных областях мозга), воздействуя напрямую на лимбическую систему, эмоциональные центры. Она напрямую вызывает эмоции, а эмоции для человека — это уже базовая основа любого рассказа; если возникает эмоция, то человек способен сплести вокруг неё паутину повествований.
Наше сознание, наш мозг — машина по распознаванию паттернов и смыслов. Мы проецируем наш инстинкт повествования, инстинкт смысла на всё, что нас окружает. Мы ищем причинно-следственные связи, завязку и развязку даже там, где их объективно нет (как указывают некоторые исследователи, в музыке нет «прошедшего времени», а значит, связи прошлого и настоящего возможны только через цитирование, только через активное присутствие прошлого материала в настоящем). А иногда, даже если композитор вкладывал какой-то сюжет в свою музыку, мы находим для неё свои собственные истории. Абсолютная музыка, с её напряжением и разрядкой, конфликтующими темами и их развитием, предоставляет идеальный, хоть и абстрактный, каркас для этого инстинкта. Мы не слышим конкретную историю — мы наполняем своей собственной историей предлагаемую нам музыкальную форму. Звуки музыки сами по себе лишены смысла, они существуют как составляющие процесса, музыкального движения; вся совокупность звуковых процессов очерчивает замкнутый и герметичный мир музыкального произведения. Однако звуки как элементы, сплетаясь во временной процесс, наполняются смыслом — спонтанно и интуитивно. Искать и создавать смыслы — одна из характеристик того, что значит «быть человеком».
Основной нарративный каркас музыкального произведения формируется за счёт игр постоянства и изменений. Скажем, в концерте для двух фортепиано и оркестра Nuun (1996) Беата Фуррера повествование осуществляется за счёт постепенного перехода от martellato к cantabile, от кинетического и хаотического множества, а также от многослойной структуры, в которой голоса будто бы соперничают, сталкиваются, пытаются перекричать друг друга, — к угасанию, одинокому звуку фортепиано. История трансформации — в данном случае, переход от множества к единству, от множества объектов – к субъекту – один из основных элементов нарратизации музыки. Даже в музыке, построенной на повторении паттернов (скажем, в Canto ostinato Симеона тен Хольта, в Piano phase или Violin phase Стива Райха и в работах других минималистов), повествовательность часто возникает за счёт изменения материала.
Хороший пример того, как развертывание чистых музыкальных идей порождает музыку с мощным нарративным потенциалом, — сочинение для скрипки соло «Шёпот феникса» (2010) Александра Хубеева. В нём угадывается игра искорок золы, броуновского движения, сверкающей пыли в лучах солнца. Динамика, активность и насыщенность его текстуры меняется — от повышенной интенсивности в начале пьесы до медленного ритмического угасания в движении к финалу. Музыка балансирует в пространстве хаоса — звуковые уколы и шумовые всплески объединяются в двухслойный ритм. Пьеса укутывает слушателя в меланхолический нарратив с нотками отчаяния — и название, которое родилось после сочинения, может ограничивать возможные нарративы, но не определять их.
Как и философия, музыка, на свой собственный лад, — это сознание “вслух”. Сознание, ставшее непосредственно ощутимым, обретшим форму вещи, ставшее внешне выраженным повествованием (по словам философа Дэниела Деннета, «любое Я — это просто воображаемый центр нарративной гравитации»). В формах музыки отлиты силы и их противоречия, которые складываются в субъективный опыт. Звуковые орнаменты являются впечатлением, но впечатлением, в случае абсолютной музыки, заключающим лишь самоё себя, не отсылающим к чему-то вовне. Может быть впечатление чего-то иного, внешнего, к примеру восхода солнца в порту Гавра, а может — впечатление впечатления, т.е. впечатления, направленного на сам опыт, его содержания и формы. Такой музыкальный опыт не передаёт ничего иного, кроме опыта самого сознания, которое становится проявленным и ощутимым благодаря музыке. Время и сознание, что в некотором смысле одно и то же, — вроде плёнки, музыка — реагенты, которые её проявляют. Музыкальное произведение позволяет времени стать чувственным опытом, а не просто сценой, где разыгрывается жизненное действо.
Таким образом, абсолютная музыка, экспрессивная неэкспрессивность, оказывается зеркалом: с одной стороны, она отражает универсальные логические структуры любого нарратива, само время с его неоднородностью и базовой структурностью (в любом времени уже заключена базовая нарративная структура — есть «потом», а есть «прежде»); а с другой — в ней отражается наше собственное сознание, всегда готовое превратить поток ощущений в осмысленную историю.
Именно в такой момент к нам на помощь приходят метафоры — ведь истории, которые нашёптывает нам абсолютная музыка, не являются её описаниями, они являются поэзией, порождённой звуком как поводом. Метафора — не комментарий музыки и не описание её сущности, скорее метафора и сама музыка объединяются во что-то третье, в амальгаму, которая транслирует невыразимое в субъективный опыт, меняющий нас, меняющий, буквально, наш мозг. Метафора создаёт «крючочки», которые нас цепляют, и резонанс, который позволяет освоить, сделать своим, чуждое.
Музыка — темпоральное искусство. Если визуальные искусства имеют дело с образом, статикой, в которой в снятом, пользуясь термином Гегеля, виде содержится любая динамика, то темпоральные искусства — искусства процессов и развёртывания — имеют дело с историей, пусть и в абстрактном виде. Основные признаки нарратива — временная последовательность, наличие причинно-следственных связей, персонажей и объектов, которые трансформируются в ходе связных событий (таких персонажей мозг вычленяет из потока музыкального произведения). Даже самая хаотичная на слух музыка (или, по выражению философа Квентина Мейясу, «гиперхаос», в котором глубинные взаимосвязи могут быть проигнорированы слушателем) в силу того, что является темпоральной, создаёт скелет нарратива, базовые нарративные ячейки (в качестве примера можно привести сочинение Пьера Булеза Polyphonie X). Наше сознание выстраивает звуковые события в нарративные последовательности, в тембрах и осколках тем ищет звуковые объекты и персонажи, в процессе ищет трансформацию.
Человек — существо, которое создаёт знаки, а эти знаки сплетает в истории. Поэтому, вероятно, невозможно написать или сымпровизировать такую музыку, которая не нашёптывала бы слушателю истории — или, что точнее, в которой слушатель бы не услышал истории.
Вторая половина XIX века и XX век — эпоха краха идей панрационализма, представления о том, что реальность, в том числе культурная, социальная, может быть описана и объяснена с помощью разума, логики, системы. Не случайно именно в это время в философию возвращается интерес к музыке, а не к визуальным искусствам.
В эту эпоху философскую систему, вроде гегелевской, начиная с Ницше и Кьеркегора, начинают подозревать в неискренности, подтасовках и обеднении человеческого образа и жизни. В жизни есть место иррациональному, непроницаемому, тому, что сопротивляется всякому анализу, тому, что, по словам Витгенштейна, себя лишь показывает, но не может быть объяснено и описано. И тем не менее даже само невыразимое вплетается в повествования, которые мы слышим даже в самой абстрактной музыке. Нечто делает музыку, которая не является языком, не принадлежит полностью к сфере рацио, частью субъективного опыта, который, в конечном счёте, может быть описан.
Музыка способна вызывать в нас глубокие эмоции, переносить в иные состояния, которые мы сами в данный момент не испытываем, рассказывать истории без единого слова. Но что именно и как она рассказывает? Философия музыки пытается найти ответ на этот вопрос, и в центре её поисков неизменно оказывается феномен абсолютной музыки — инструментальной музыки, не связанной с текстом, программой или сюжетом. Music alone, в отличие от music together, по выражению философа музыки Питера Киви, — это музыка без внемузыкальных компонентов, без слов, без визуального сопровождения, наконец, без программы или прописанного внешнего нарратива. Music alone и music together — скорее идеальные полюсы; даже чистая инструментальная музыка, вроде сонат и фортепианных сочинений Сальваторе Шаррино, содержащих в себе призраки прошлого (многочисленные руины и цитаты из Брамса, Баха и Равеля, к примеру) и тонкую тембральную работу, окружена орнаментом слов, идей и обстоятельств, которые, конечно, диктуют нам свои интерпретации. Понятие «music alone» близко к более старому и почтенному понятию абсолютной музыки, подробно разработанному ещё в дискуссии Рихарда Вагнера и Эдуарда Ганслика.
Эдуард Ганслик писал в трактате «О прекрасном в музыке» (1854):
«Музыка состоит из звукорядов, звукоформ. Они не имеют никакого другого содержания, кроме самих себя. При том что эффект, производимый музыкальной пьесой, каждый оценивает и обозначает словами в меру своей индивидуальности, никакого содержания того же самого, кроме как воспринятые слухом звукоформы, нет — ведь музыка говорит не просто через звуки, она только звуки и говорит».
Вопрос об абсолютной музыке — один из вопросов философии музыки. Эта дисциплина относится к так называемым философиям родительного падежа — подобно философии права или философии науки. Это означает, что у её предмета есть относительно чёткие границы и устоявшаяся практика словоупотребления. Есть некоторая повседневная ясность, что такое музыка, хотя попытки дать чёткое определение этому феномену и приводят нас к философии музыки. Каждый вроде бы знает, о чём он говорит, когда говорит о музыке, но попытки чётко дать определение музыкальному обычно приводят к некоторому замешательству.
Музыка, возможно, содержит больше, чем другие искусства, философских загадок. Загадкой становится инстанция существования — где и как существует музыка? Не до конца ясно и то, чем является музыкальное произведение. В отличие от живописи, у музыки нет объективных инстанций существования, нет картин. Является ли основной инстанцией нотный текст или конкретная звучащая интерпретация? А как быть с импровизацией? Что такое музыка, как её определить? Каковы отношения музыки с истиной и ценностями?
Философия музыки исследует природу музыки, её ценность и, что особенно важно, парадокс её выразительности. Каким образом последовательности звуков, лишенные словесного смысла, темпоральные и эфемерные, могут быть столь мощно эмоционально насыщенными и что-то нам сообщать? Многие философы музыки (в частности, Питер Киви или Владимир Янкелевич) отрицают языковую природу музыки. Музыка для таких философов не является языком, в ней нет определенной семантики, нет устойчивых минимальных смысловых единиц. Кроме того, музыка неспособна, в отличие от языка, строить фактуальные высказывания и передавать образы фактов — попробуйте с помощью музыки понятным образом рассказать кому-то, скажем, о том, что скорость света является предельной для нашего мира. Когда музыка начинает обслуживать коммуникацию (как, скажем, азбука Морзе), она перестаёт быть музыкой, становится лишь сигналами.
Почему философия музыки проявляет особый интерес именно к абсолютной, чистой инструментальной музыке? Причина этого не в снобизме, не в желании игнорировать другие формы бытования музыки, а в методологической чистоте. Такая концентрация позволяет выйти к непосредственным философским проблемам музыки. Программная музыка или вокальные жанры (опера, романс) всегда могут опереться на вербальный компонент — текст, название, сюжет. Их выразительность отчасти объясняется этим союзом со словом. Они обслуживают выраженную внешним образом историю — необязательно некий сюжет, но, например, историю о травме и её преодолении или историю об идентичности, что часто бывает в современной академической музыке. Наконец, как в Harmonielehre Джона Адамса (1985), музыка может рассказывать историю самой музыки и выражать саму внутреннюю историческую диалектику музыкального искусства (в данном случае — примирять минимализм и хроматическую гармонию fin-de-siècle). Другой пример нарратива о музыкальной истории, поданного средствами музыки, — Swing Symphony Уинтона Марсалиса.
Абсолютная же музыка — это музыка в её самом чистом, практически лабораторном виде. Она ставит проблему выразительности в острой форме: если музыка ничего не «изображает» и ни о чём напрямую не «говорит», как, скажем, фуга, если в ней нет вербального компонента, то как и что она может нам сообщать? Что это за «истории» без конкретных героев и событий, которые мы так явственно слышим в симфониях Бетховена — или в этюдах Гласса и симфониях Гленна Бранки? Кто является действующим субъектом музыкального повествования?
Ответ, возможно, лежит в сфере самого устройства нашего сознания — и того, как оно отражает мир (или конструирует). Обратимся к одному из более ранних философских примеров. Немецкий философ Артур Шопенгауэр предлагал взглянуть на музыку не как на рассказ о конкретных вещах — даже о звуках, а как на отражение самой логической сути мира. Он считал, что музыка относится к всеобщим понятиям (идеям) так же, как те относятся к отдельным вещам. Она является прямой объективацией мировой воли, первопричины всех явлений. Проще говоря, музыка — это «речь обо всём и ни о чём конкретно», она воплощает в своих формах (не важно, тяготеем ли мы к Шопенгауэру или аналитической философии) базовые каркасы и диалектику мира — или языка.
Абсолютная музыка — это не история о любви или борьбе. Если это и трагедия, то это трагедия, пользуясь образом Фридриха Ницше, «разлада в самом сердце Первоединого», изначального конфликта между неподвижным единством и процессуальным множеством. Это история о самом движении, развитии, конфликте и разрешении, то есть о самых базовых компонентах и формах любого построения нарратива. Это нарратив о том, как вообще строятся любые нарративы. Всеобщая история об историях, наиболее абстрактная форма повествования, его идея. В классической музыке, к примеру в сонате, мы слышим зарождение и развитие темы, её борьбу с противоборствующими силами (побочными темами), кульминацию, трансформацию и финальное разрешение. В современной музыке могут господствовать иные формы процессуальности, например контингентность, постоянная изменчивость, размывающая всякую определённость, или, напротив, репетитивность, в которой малейшее изменение становится событием тектонического масштаба. Это чистая драматургия, содержащая скелет любого возможного повествования. Как и любое произведение искусства, самоценное и не нуждающееся во внешнем обосновании, музыка не отображается в качестве локального и отдельного, а выражает жизнь как тотальную целостность. Поэтому музыкальное произведение — это всеобщность жизни, проявившаяся в движении звуковых форм.
Но почему мы вообще склонны слышать в этих абстрактных структурах «истории», наполнять их с помощью нашего воображения сюжетами и образами, то есть вербализуемым материалом? Это такая же фундаментальная особенность человеческого восприятия, как и парейдолия — способность видеть знакомые образы (например, лица) в случайных формах облаков, трещин на камне или узорах ветвей. Этот феномен находит объяснение в современных нейробиологических исследованиях. Наше восприятие креативно и активно (и эта мысль властвует над европейской эпистемологией начиная ещё с Канта), мозг не просто пассивно воспринимает звук, а активно предвосхищает его развитие, ищет в нём знакомые силуэты, интерпретирует его и ассоциирует его с другими образами и опытом, содержащимся в памяти и других функциях сознания. Композиторы, иногда интуитивно, но чаще осознанно, играют с этими ожиданиями: создают напряжение через диссонанс или задержку разрешения и дарят катарсис, когда ожидание наконец удовлетворяется. Или, напротив, максимально избегают всякого ответа — напряжение нарастает до невыносимости и делает ответ на вопрос, которого так и не случается, делом метафизического масштаба. Этот механизм — «вопрос — ответ», «проблема — решение» — является простейшей нарративной единицей, протонарративом. Таким образом, музыка рассказывает истории потому, что её временная структура напрямую резонирует с фундаментальными когнитивными паттернами, с помощью которых мы осмысливаем любой поток событий в нашей жизни.
Ролан Барт утверждал безграничное существование нарративов:
«Нарратив существует во все эпохи, во всех местах, во всех обществах; нарратив, повествование начинается вместе с самой историей человечества; не существует и никогда не существовало ни одного народа без нарративов…»
Начиная с 1980-х годов, старый вопрос о нарративности музыки возвращается в дискуссии о философии музыки. Разработки нарратологии, литературоведческой дисциплины, пытаются применять для объяснения способности музыки рассказывать истории — или протоистории. Некоторые теоретики нарратологии разделяют в нарративе саму историю и дискурсивную компоненту. История — это события, происходящее с персонажами, материал, каузальные цепи, «что» нарратива. Дискурс — это стиль, позиция нарратора, подразумеваемый наблюдатель, «как» нарратива. В случае с музыкой, «что» крайне размыто; мы можем услышать в первой части Второй симфонии Малера приближение чего-то угрожающего, но что за угроза, кто подвержен угрозе, как они оказались в некотором «здесь» — непонятно, это ускользает. Музыкальные нарративы, таким образом, это дискурсы без материи, именно этим объясняется такая индивидуальность образов, историй, интерпретаций музыкальных произведений разными людьми.
Музыка сложным образом обрабатывается нашим активным мозгом (в том числе, после обработки звука слуховой корой в височных областях мозга), воздействуя напрямую на лимбическую систему, эмоциональные центры. Она напрямую вызывает эмоции, а эмоции для человека — это уже базовая основа любого рассказа; если возникает эмоция, то человек способен сплести вокруг неё паутину повествований.
Наше сознание, наш мозг — машина по распознаванию паттернов и смыслов. Мы проецируем наш инстинкт повествования, инстинкт смысла на всё, что нас окружает. Мы ищем причинно-следственные связи, завязку и развязку даже там, где их объективно нет (как указывают некоторые исследователи, в музыке нет «прошедшего времени», а значит, связи прошлого и настоящего возможны только через цитирование, только через активное присутствие прошлого материала в настоящем). А иногда, даже если композитор вкладывал какой-то сюжет в свою музыку, мы находим для неё свои собственные истории. Абсолютная музыка, с её напряжением и разрядкой, конфликтующими темами и их развитием, предоставляет идеальный, хоть и абстрактный, каркас для этого инстинкта. Мы не слышим конкретную историю — мы наполняем своей собственной историей предлагаемую нам музыкальную форму. Звуки музыки сами по себе лишены смысла, они существуют как составляющие процесса, музыкального движения; вся совокупность звуковых процессов очерчивает замкнутый и герметичный мир музыкального произведения. Однако звуки как элементы, сплетаясь во временной процесс, наполняются смыслом — спонтанно и интуитивно. Искать и создавать смыслы — одна из характеристик того, что значит «быть человеком».
Основной нарративный каркас музыкального произведения формируется за счёт игр постоянства и изменений. Скажем, в концерте для двух фортепиано и оркестра Nuun (1996) Беата Фуррера повествование осуществляется за счёт постепенного перехода от martellato к cantabile, от кинетического и хаотического множества, а также от многослойной структуры, в которой голоса будто бы соперничают, сталкиваются, пытаются перекричать друг друга, — к угасанию, одинокому звуку фортепиано. История трансформации — в данном случае, переход от множества к единству, от множества объектов – к субъекту – один из основных элементов нарратизации музыки. Даже в музыке, построенной на повторении паттернов (скажем, в Canto ostinato Симеона тен Хольта, в Piano phase или Violin phase Стива Райха и в работах других минималистов), повествовательность часто возникает за счёт изменения материала.
Хороший пример того, как развертывание чистых музыкальных идей порождает музыку с мощным нарративным потенциалом, — сочинение для скрипки соло «Шёпот феникса» (2010) Александра Хубеева. В нём угадывается игра искорок золы, броуновского движения, сверкающей пыли в лучах солнца. Динамика, активность и насыщенность его текстуры меняется — от повышенной интенсивности в начале пьесы до медленного ритмического угасания в движении к финалу. Музыка балансирует в пространстве хаоса — звуковые уколы и шумовые всплески объединяются в двухслойный ритм. Пьеса укутывает слушателя в меланхолический нарратив с нотками отчаяния — и название, которое родилось после сочинения, может ограничивать возможные нарративы, но не определять их.
Как и философия, музыка, на свой собственный лад, — это сознание “вслух”. Сознание, ставшее непосредственно ощутимым, обретшим форму вещи, ставшее внешне выраженным повествованием (по словам философа Дэниела Деннета, «любое Я — это просто воображаемый центр нарративной гравитации»). В формах музыки отлиты силы и их противоречия, которые складываются в субъективный опыт. Звуковые орнаменты являются впечатлением, но впечатлением, в случае абсолютной музыки, заключающим лишь самоё себя, не отсылающим к чему-то вовне. Может быть впечатление чего-то иного, внешнего, к примеру восхода солнца в порту Гавра, а может — впечатление впечатления, т.е. впечатления, направленного на сам опыт, его содержания и формы. Такой музыкальный опыт не передаёт ничего иного, кроме опыта самого сознания, которое становится проявленным и ощутимым благодаря музыке. Время и сознание, что в некотором смысле одно и то же, — вроде плёнки, музыка — реагенты, которые её проявляют. Музыкальное произведение позволяет времени стать чувственным опытом, а не просто сценой, где разыгрывается жизненное действо.
Таким образом, абсолютная музыка, экспрессивная неэкспрессивность, оказывается зеркалом: с одной стороны, она отражает универсальные логические структуры любого нарратива, само время с его неоднородностью и базовой структурностью (в любом времени уже заключена базовая нарративная структура — есть «потом», а есть «прежде»); а с другой — в ней отражается наше собственное сознание, всегда готовое превратить поток ощущений в осмысленную историю.
Именно в такой момент к нам на помощь приходят метафоры — ведь истории, которые нашёптывает нам абсолютная музыка, не являются её описаниями, они являются поэзией, порождённой звуком как поводом. Метафора — не комментарий музыки и не описание её сущности, скорее метафора и сама музыка объединяются во что-то третье, в амальгаму, которая транслирует невыразимое в субъективный опыт, меняющий нас, меняющий, буквально, наш мозг. Метафора создаёт «крючочки», которые нас цепляют, и резонанс, который позволяет освоить, сделать своим, чуждое.
Музыка — темпоральное искусство. Если визуальные искусства имеют дело с образом, статикой, в которой в снятом, пользуясь термином Гегеля, виде содержится любая динамика, то темпоральные искусства — искусства процессов и развёртывания — имеют дело с историей, пусть и в абстрактном виде. Основные признаки нарратива — временная последовательность, наличие причинно-следственных связей, персонажей и объектов, которые трансформируются в ходе связных событий (таких персонажей мозг вычленяет из потока музыкального произведения). Даже самая хаотичная на слух музыка (или, по выражению философа Квентина Мейясу, «гиперхаос», в котором глубинные взаимосвязи могут быть проигнорированы слушателем) в силу того, что является темпоральной, создаёт скелет нарратива, базовые нарративные ячейки (в качестве примера можно привести сочинение Пьера Булеза Polyphonie X). Наше сознание выстраивает звуковые события в нарративные последовательности, в тембрах и осколках тем ищет звуковые объекты и персонажи, в процессе ищет трансформацию.
Человек — существо, которое создаёт знаки, а эти знаки сплетает в истории. Поэтому, вероятно, невозможно написать или сымпровизировать такую музыку, которая не нашёптывала бы слушателю истории — или, что точнее, в которой слушатель бы не услышал истории.
ПО ЛАБИРИНТАМ ПАМЯТИ
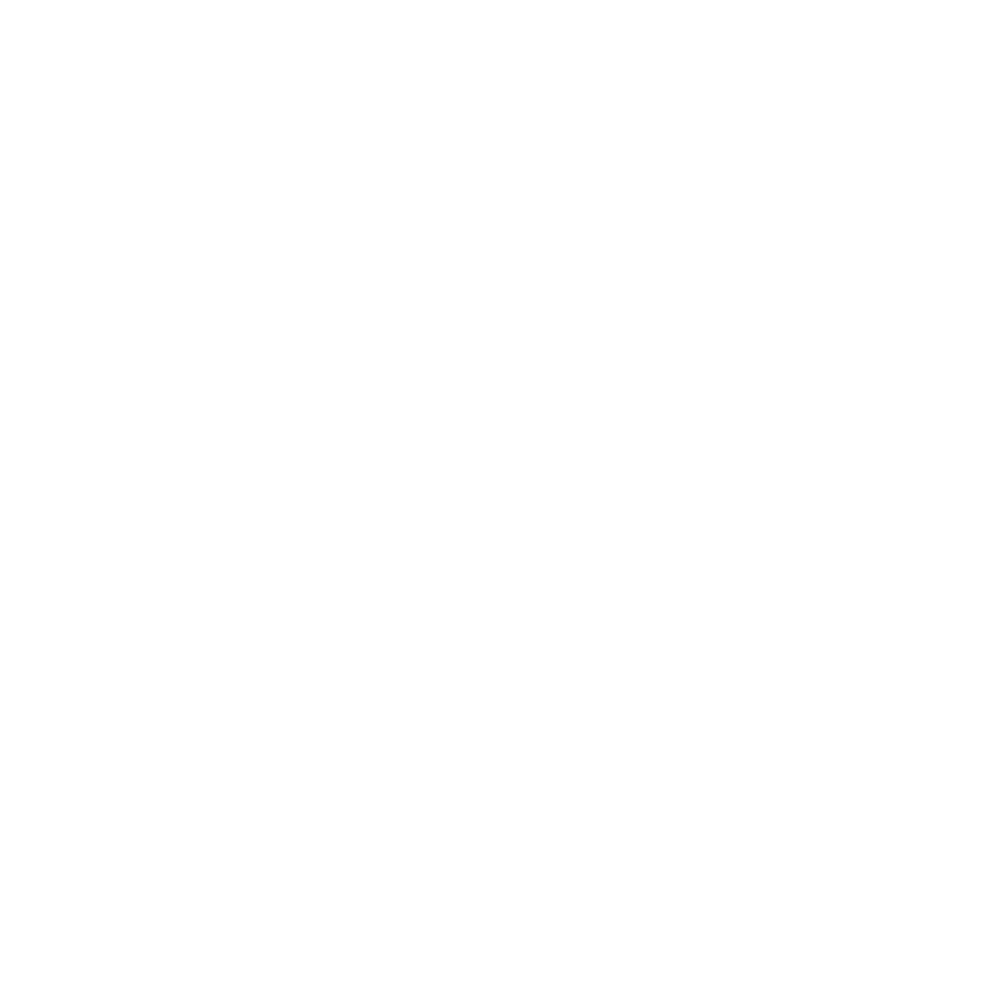
Константин Черкасов
Историк театра, музыкальный критик, публикатор архивных документов. Печатается в профессиональных театральных изданиях («Коммерсантъ», «Вопросы театра», альманах «Мнемозина»). Помощник генерального директора (2021–22), заместитель начальника литературного-издательского отдела Большого театра России (2022–25), исполнительный директор фестиваля «Декабрьские вечера Святослава Рихтера»
в ГМИИ им. А.С. Пушкина (2023, 2024).
в ГМИИ им. А.С. Пушкина (2023, 2024).
Этот текст наверняка покажется простодушным. Излишне лирическим и совершенно не философским.
12 лет назад я поступил на театроведческий факультет ГИТИСа (2013) — как оказалось, в совершенно золотую мастерскую Алексея Бартошевича и Видаса Силюнаса, которой больше нет. Грешно вспомнить, но тогда я даже не очень понимал, кто они такие. А в деканате перед их именами благоговели.
Мой курс учился во время феноменального расцвета московской — как минимум — театрально-концертной жизни. Действительно, оглядываясь из сегодняшней обрубленной по всем фронтам действительности, не знаешь, как собрать этот калейдоскоп пленительных воспоминаний: учебные часы в Малом Кисловском заканчивались в 18:10 и студенты — вместе с преподавателями — вприпрыжку бежали в театры. Скорость же зависела от степени удаленности театра от института и желания успеть перехватить что-нибудь съестное: порой длительность спектакля была неизвестна.
Те годы совпали с мощной «пересборкой» московских театров, свидетелем оживления которых стало и моё поколение: в Театре им. Вахтангова уже дали всходы труды Римаса Туминаса (2007), благодаря Сергею Капкову в Театр им. Маяковского пришёл Миндаугас Карбаускис (2011), в Театр им. Гоголя — Кирилл Серебренников (2012), в Театр им. Станиславского — Борис Юхананов (2013). В то время среду формировали крупные фестивали (Чеховский, Новый Европейский Театр, Территория, Золотая Маска в ее старой «редакции» и Сезон Станиславского), работы заморских гостей (сейчас студентам трудно представить, что в Москву приезжали и ставили оригинальные спектакли Роберт Уилсон, Томас Остермайер, Робер Лепаж, Петер Штайн, Джон Ноймайер и прочие гранды мирового театра) и деятельность собственных мощнейших кадров, таких как Кирилл Серебренников, Дмитрий Крымов или Юрий Бутусов. Теперь уже можно сказать: всё это давало нам потрясающее знание о том, как должен выглядеть театр больших мастеров, театр захватывающий, а не вымученный. Так было до 2022-го. А 2025-й вполне символически и вполне реально — грубой вышней силой — подвёл черту под первой четвертью XXI века. Так, кажется, в учебниках пишут?
12 лет назад я поступил на театроведческий факультет ГИТИСа (2013) — как оказалось, в совершенно золотую мастерскую Алексея Бартошевича и Видаса Силюнаса, которой больше нет. Грешно вспомнить, но тогда я даже не очень понимал, кто они такие. А в деканате перед их именами благоговели.
Мой курс учился во время феноменального расцвета московской — как минимум — театрально-концертной жизни. Действительно, оглядываясь из сегодняшней обрубленной по всем фронтам действительности, не знаешь, как собрать этот калейдоскоп пленительных воспоминаний: учебные часы в Малом Кисловском заканчивались в 18:10 и студенты — вместе с преподавателями — вприпрыжку бежали в театры. Скорость же зависела от степени удаленности театра от института и желания успеть перехватить что-нибудь съестное: порой длительность спектакля была неизвестна.
Те годы совпали с мощной «пересборкой» московских театров, свидетелем оживления которых стало и моё поколение: в Театре им. Вахтангова уже дали всходы труды Римаса Туминаса (2007), благодаря Сергею Капкову в Театр им. Маяковского пришёл Миндаугас Карбаускис (2011), в Театр им. Гоголя — Кирилл Серебренников (2012), в Театр им. Станиславского — Борис Юхананов (2013). В то время среду формировали крупные фестивали (Чеховский, Новый Европейский Театр, Территория, Золотая Маска в ее старой «редакции» и Сезон Станиславского), работы заморских гостей (сейчас студентам трудно представить, что в Москву приезжали и ставили оригинальные спектакли Роберт Уилсон, Томас Остермайер, Робер Лепаж, Петер Штайн, Джон Ноймайер и прочие гранды мирового театра) и деятельность собственных мощнейших кадров, таких как Кирилл Серебренников, Дмитрий Крымов или Юрий Бутусов. Теперь уже можно сказать: всё это давало нам потрясающее знание о том, как должен выглядеть театр больших мастеров, театр захватывающий, а не вымученный. Так было до 2022-го. А 2025-й вполне символически и вполне реально — грубой вышней силой — подвёл черту под первой четвертью XXI века. Так, кажется, в учебниках пишут?
Прощай, «Европа»!
31 июля умер Роберт Уилсон.
Про мастеров такого масштаба принято говорить банальные (но куда деваться) слова «ушла эпоха». И это не будет преувеличением: с 1976-го — за точку отсчёта возьмём легендарного «Эйнштейна на пляже» Гласса — до своего последнего дня он считался Мафусаилом театрального авангарда. Будем честны: за последние лет двадцать можно легко найти и более радикальные опусы, но ход инерции в случае с Уилсоном остановила лишь его смерть. Его талант был всеобъемлющ: дизайнер, художник, куратор, режиссёр (нужное подчеркнуть). А его театральные полотна — не важно, в оперном или драматическом театре — становились визуальными симфониями, в которых свет, цвет, движение и звук сливались в единое целое. Для нас же — тогдашних студентов — помимо того восторженного факта, что «смотри, это же Боб Уилсон!» ходил по одной с нами грешной земле, он служил проводником в дореволюционный мир Гордона Крэга и довоенный Всеволода Мейерхольда: после премьеры «Сказок Пушкина» в Театре Наций (2015), на которые первые два года даже по контрамаркам было не протолкнуться, наша старшая коллега и преподавательница Алёна Карась замечательно написала: «Поверх нынешних скудоумных разговоров о “национальных традициях” он обратил наш взгляд туда, где Мейерхольд перекликается с Кабуки, русский лубок с советским агитпропом, конструктивизм с эстетикой английского нонсенса, а Пушкин — с русским футуризмом». А возникшая годом позже на широкой уральской реке Каме трагедия куртизанки Виолетты Валери (постановка «Травиаты» Верди в Пермском театре оперы и балета, явившая, благодаря Уилсону, чудо Надежды Павловой) встраивалась в попытку привить российской оперной сцене европейский лоск высшего порядка. Я успел застать «Мадам Баттерфляй» Уилсона и «Роделинду» Ричарда Джонса, «Билли Бадда» Дэвида Олдена и «Пеллеаса и Мелизанду» Оливье Пи. Осколки той поры ещё сохранились — «Аида» Петера Штайна в Муз. театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, «Женщина без тени» Джонатана Кента в Мариинке, «Саломея» Клауса Гута в Большом театре.
Про мастеров такого масштаба принято говорить банальные (но куда деваться) слова «ушла эпоха». И это не будет преувеличением: с 1976-го — за точку отсчёта возьмём легендарного «Эйнштейна на пляже» Гласса — до своего последнего дня он считался Мафусаилом театрального авангарда. Будем честны: за последние лет двадцать можно легко найти и более радикальные опусы, но ход инерции в случае с Уилсоном остановила лишь его смерть. Его талант был всеобъемлющ: дизайнер, художник, куратор, режиссёр (нужное подчеркнуть). А его театральные полотна — не важно, в оперном или драматическом театре — становились визуальными симфониями, в которых свет, цвет, движение и звук сливались в единое целое. Для нас же — тогдашних студентов — помимо того восторженного факта, что «смотри, это же Боб Уилсон!» ходил по одной с нами грешной земле, он служил проводником в дореволюционный мир Гордона Крэга и довоенный Всеволода Мейерхольда: после премьеры «Сказок Пушкина» в Театре Наций (2015), на которые первые два года даже по контрамаркам было не протолкнуться, наша старшая коллега и преподавательница Алёна Карась замечательно написала: «Поверх нынешних скудоумных разговоров о “национальных традициях” он обратил наш взгляд туда, где Мейерхольд перекликается с Кабуки, русский лубок с советским агитпропом, конструктивизм с эстетикой английского нонсенса, а Пушкин — с русским футуризмом». А возникшая годом позже на широкой уральской реке Каме трагедия куртизанки Виолетты Валери (постановка «Травиаты» Верди в Пермском театре оперы и балета, явившая, благодаря Уилсону, чудо Надежды Павловой) встраивалась в попытку привить российской оперной сцене европейский лоск высшего порядка. Я успел застать «Мадам Баттерфляй» Уилсона и «Роделинду» Ричарда Джонса, «Билли Бадда» Дэвида Олдена и «Пеллеаса и Мелизанду» Оливье Пи. Осколки той поры ещё сохранились — «Аида» Петера Штайна в Муз. театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, «Женщина без тени» Джонатана Кента в Мариинке, «Саломея» Клауса Гута в Большом театре.
Прощай, Фицкарральдо!
5 августа умер Борис Юхананов — «сумасшедший принц», романтик, но реалист. Возглавив поникший Театр им. Станиславского и превратив его в цветущий электротеатр утопической радикальной режиссуры «Станиславский» (шутка ли — заполучить к себе Терзопулоса, Фабра, Кастеллуччи и Гёббельса), он разрешил себе вольность работать не только с драмой, но и с академической музыкой в драме — здесь уместно сравнение с Фицкарральдо Вернера Херцога, только с той разницей, что проекты Юхананова состоялись и имели успех. Пятичастный оперный сериал «Сверлийцы» (2012–2015; почти «Кольцо нибелунга» Вагнера), основанный на его собственном тексте, стал одним из флагманских проектов театра, объединив работы шести ведущих российских композиторов: Дмитрия Курляндского, Бориса Филановского, Алексея Сюмака, Сергея Невского, Алексея Сысоева и Владимира Раннева. Этот проект стал своего рода «групповым портретом» современной российской академической музыки: парадоксально, что подобная инициатива исходила не от одного из ведущих оперных театров страны, а от Электротеатра. Тем самым Юхананов затронул проблему разобщённости различных видов искусства в России, где театр, музыка и современное искусство существуют изолированно друг от друга — десять лет назад, в том числе этими самыми «Сверлийцами», было заложено то, что позволяет сегодня собирать полные залы на мировых премьерах Сысоева или Горлинского в Московской филармонии. «Сверлийцы» стали своеобразным манифестом поколения, пытавшегося изменить культурную ситуацию в России. И символично, что последние показы проекта состоялись в 2022-м.
Прощай, наш ласковый и нежный зверь!
9 августа погиб Юрий Бутусов. «Наше всё» для тех, кто пришел в театр в конце 1990-х – начале 2010-х. Новость об его смерти больно ударила нам всем в под дых. А мне вновь напомнила мой 2013-й.
В тот февраль на московской сцене одновременно вышло три бестселлера и три важнейших спектакля 2010-х: 1 февраля в Театре им. Пушкина Юрий Бутусов выпустил «Доброго человека из Сезуана» Брехта, 10 февраля Константин Богомолов представил «Идеального мужа» (МХТ им. Чехова), а уже 13 февраля Театр им. Вахтангова показал «Евгения Онегина» Римаса Туминаса.
Я увидел «Доброго человека», кажется, осенью того же года. Помню пространство под козырьком Пушкинского театра, куда медленно, испуганно, но восторженно выплывала толпа, на которую двадцатью минутами ранее обрушился яростный монолог-зонг Шен Те—Александры Урсуляк на музыку Пауля Дессау — о несовершенстве мира и о том, как «протянешь руку нищему, а он же сам её и вырвет». В «Добром человеке», как и во многих других своих спектаклях — будь то «Отелло» (2013), «Бег» (2015), «Барабаны в ночи» (2016), «Пер Гюнт» (2019) — Бутусов требовал от артистов полного соучастия в исследовании леденящей страсти и отчаянной правды, отчего за них — артистов — становилось по-настоящему страшно. Бутусов высекал из артистов огонь героико-трагического напряжения, преломлявшийся разными всполохами оттенков в его яркой, бесстрашной и надрывной театральности. Публике же он предлагал раскрыть глаза, включить ассоциации и думать, чувствовать, вспоминать, фантазировать, разгадывать — в этом заключались счастье его спектаклей и любовь его зрителей. Бутусов умел затягивать в свои сети, оглушать не звуком, а скорее тишиной — хриплым, полубеззвучным «Помогите!» заканчивался его «Добрый человек».
В последний раз спектакль показали 26 июня 2024-го. И «Помогите!» Шен Те звучало для зрителя совсем по-иному, нежели в 2013-м…
В тот февраль на московской сцене одновременно вышло три бестселлера и три важнейших спектакля 2010-х: 1 февраля в Театре им. Пушкина Юрий Бутусов выпустил «Доброго человека из Сезуана» Брехта, 10 февраля Константин Богомолов представил «Идеального мужа» (МХТ им. Чехова), а уже 13 февраля Театр им. Вахтангова показал «Евгения Онегина» Римаса Туминаса.
Я увидел «Доброго человека», кажется, осенью того же года. Помню пространство под козырьком Пушкинского театра, куда медленно, испуганно, но восторженно выплывала толпа, на которую двадцатью минутами ранее обрушился яростный монолог-зонг Шен Те—Александры Урсуляк на музыку Пауля Дессау — о несовершенстве мира и о том, как «протянешь руку нищему, а он же сам её и вырвет». В «Добром человеке», как и во многих других своих спектаклях — будь то «Отелло» (2013), «Бег» (2015), «Барабаны в ночи» (2016), «Пер Гюнт» (2019) — Бутусов требовал от артистов полного соучастия в исследовании леденящей страсти и отчаянной правды, отчего за них — артистов — становилось по-настоящему страшно. Бутусов высекал из артистов огонь героико-трагического напряжения, преломлявшийся разными всполохами оттенков в его яркой, бесстрашной и надрывной театральности. Публике же он предлагал раскрыть глаза, включить ассоциации и думать, чувствовать, вспоминать, фантазировать, разгадывать — в этом заключались счастье его спектаклей и любовь его зрителей. Бутусов умел затягивать в свои сети, оглушать не звуком, а скорее тишиной — хриплым, полубеззвучным «Помогите!» заканчивался его «Добрый человек».
В последний раз спектакль показали 26 июня 2024-го. И «Помогите!» Шен Те звучало для зрителя совсем по-иному, нежели в 2013-м…
МУЗЫКА ПОСЛЕ УТОПИИ: ГРУЗИНСКИЕ ФЕСТИВАЛИ КАК ПЛОЩАДКИ НОВЫХ НАРРАТИВОВ

Иван Нечаев
Культурный обозреватель, исследователь современного искусства
XX век оставил Грузии два типа наследия: архитектурные руины и утраченные культурные сценарии. Исчезла сама утопия академической музыки — эпоха, когда симфонический зал был ареной сакрального обряда, где звук становился эквивалентом идеи. Сегодня на её месте разрастается множественность новых форматов, в которых институции, артисты и целые регионы пробуют заново изобрести функцию музыки. Грузинские фестивали становятся пространствами, где проверяют, как можно жить с разорванными повествованиями: с традицией, говорящей голосами полифонии; с академической сценой, ищущей диалог с глобальным контекстом; с постклубной культурой, которая мыслит архивом и техно-этикой. Каждый фестиваль — это не просто календарное событие, а сюжет, новый нарратив о том, что музыка может значить сегодня.
Tsinandali Festival: Европа в винограднике
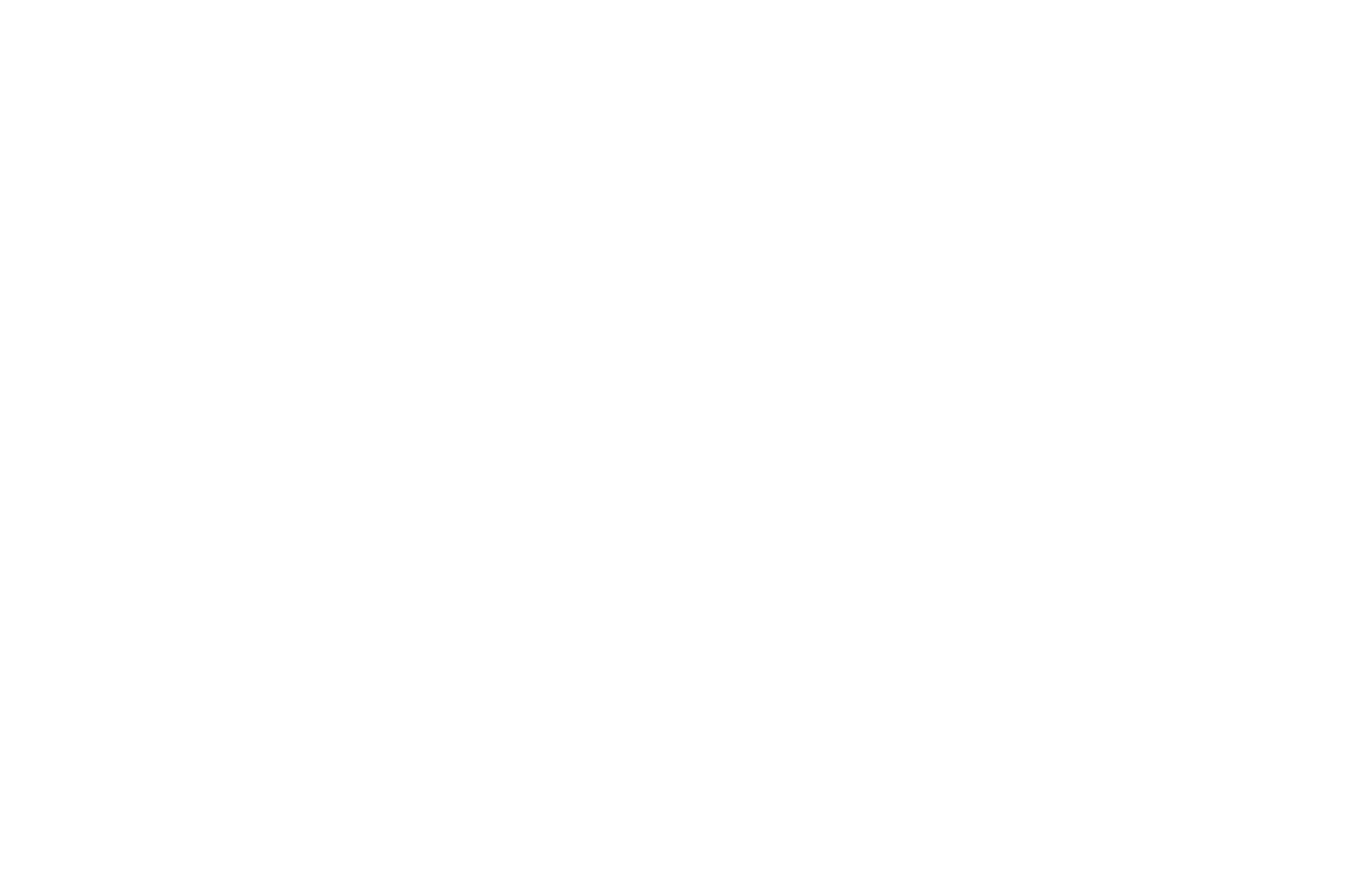
Если выбирать одно событие, которое лучше всего объясняет институциональную амбицию грузинской академии, это будет Tsinandali Festival. В сердце Кахетии, среди виноградников и усадебной архитектуры Александра Чавчавадзе, постепенно выстраивается проект, который перестал быть региональной «ярмаркой культурности» и стал форпостом европейской институциональности на Кавказе.
Индикатор уровня: в 2024 году здесь прошёл Europakonzert Берлинского филармонического оркестра — ритуал, обычно закреплённый за знаковыми площадками Европы (от Берлинского собора до Версальского дворца). В Алазанской долине этот концерт звучал как политический жест: Европа здесь — не декорация, а протокол сотрудничества. Сольные выступления Лизы Батиашвили и концерты под руководством Дэниела Хардинга позволили грузинскому фестивалю оказаться в символическом календаре европейской музыкальной памяти.
Вторая опорная инициатива Tsinandali — Pan-Caucasian Youth Orchestra. Несмотря на «юношеское» название, речь идёт не о возрасте музыкантов, а об эксперименте в области оркестровой дисциплины. Ансамбль объединяет исполнителей из Грузии, Армении, Азербайджана, Турции и других стран. Под руководством Джанандреа Нозеды оркестр формируется как школа «панрегиональной сцены», где репетиции, мастер-классы и совместные проекты становятся механизмом создания новой музыкальной идентичности.
Программная политика Tsinandali основана на двойной стратегии: с одной стороны, выстраивается горизонталь (Бах рядом с современными сочинениями, мировые солисты рядом с молодыми музыкантами), с другой — импортируются европейские институциональные ритуалы в локальный контекст. В результате «европейское» перестаёт быть внешним ориентиром и становится внутренним материалом грузинской практики.
Индикатор уровня: в 2024 году здесь прошёл Europakonzert Берлинского филармонического оркестра — ритуал, обычно закреплённый за знаковыми площадками Европы (от Берлинского собора до Версальского дворца). В Алазанской долине этот концерт звучал как политический жест: Европа здесь — не декорация, а протокол сотрудничества. Сольные выступления Лизы Батиашвили и концерты под руководством Дэниела Хардинга позволили грузинскому фестивалю оказаться в символическом календаре европейской музыкальной памяти.
Вторая опорная инициатива Tsinandali — Pan-Caucasian Youth Orchestra. Несмотря на «юношеское» название, речь идёт не о возрасте музыкантов, а об эксперименте в области оркестровой дисциплины. Ансамбль объединяет исполнителей из Грузии, Армении, Азербайджана, Турции и других стран. Под руководством Джанандреа Нозеды оркестр формируется как школа «панрегиональной сцены», где репетиции, мастер-классы и совместные проекты становятся механизмом создания новой музыкальной идентичности.
Программная политика Tsinandali основана на двойной стратегии: с одной стороны, выстраивается горизонталь (Бах рядом с современными сочинениями, мировые солисты рядом с молодыми музыкантами), с другой — импортируются европейские институциональные ритуалы в локальный контекст. В результате «европейское» перестаёт быть внешним ориентиром и становится внутренним материалом грузинской практики.
Telavi International Music Festival: школа звука Элисо Вирсаладзе
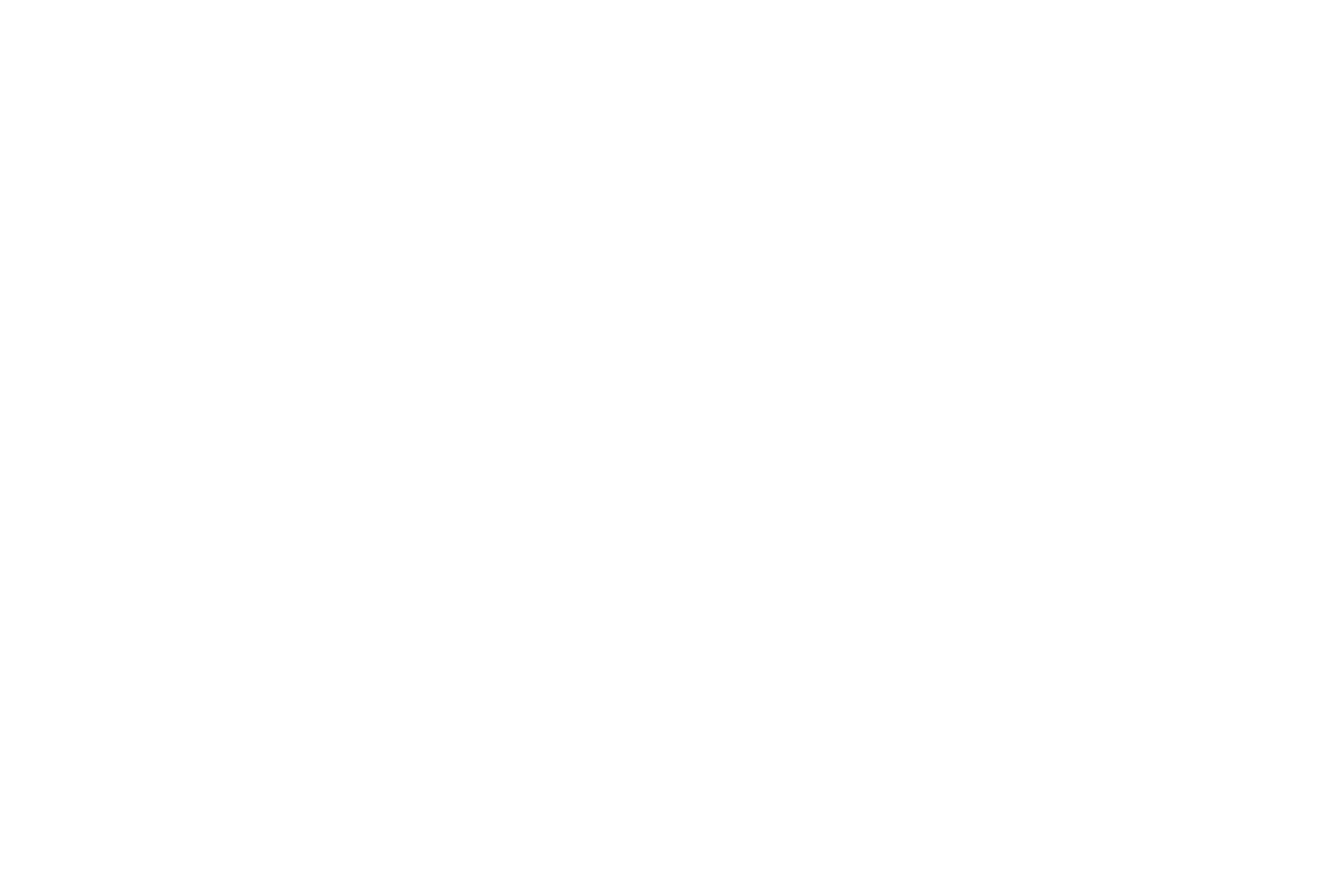
Противоположность Цинандали — Телавский фестиваль. Но если первый демонстрирует глобальную институциональность, то Telavi International Music Festival выстраивает дисциплинированную локальность. Его ядро — фигура Элисо Вирсаладзе, пианистки, для которой фестиваль стал продолжением педагогической практики.
Здесь нет показного блеска, нет маркетинговой витрины. Программы строятся вокруг канона — Моцарт, Шуберт, Шуман, Бетховен. Но канон работает как плот, удерживающий поколения в едином течении: мастер-классы, совместные рециталы, участие юных музыкантов в камерных проектах. Фестиваль превращается в модель диалога: передача техники и мышления не менее важна, чем сама интерпретация.
В условиях, когда многие грузинские фестивали предпочитают громкие имена и институциональные союзы, Телави утверждает другой нарратив: канон — это не музейный экспонат, а дисциплина сосуществования и форма этического воспитания артиста.
Здесь нет показного блеска, нет маркетинговой витрины. Программы строятся вокруг канона — Моцарт, Шуберт, Шуман, Бетховен. Но канон работает как плот, удерживающий поколения в едином течении: мастер-классы, совместные рециталы, участие юных музыкантов в камерных проектах. Фестиваль превращается в модель диалога: передача техники и мышления не менее важна, чем сама интерпретация.
В условиях, когда многие грузинские фестивали предпочитают громкие имена и институциональные союзы, Телави утверждает другой нарратив: канон — это не музейный экспонат, а дисциплина сосуществования и форма этического воспитания артиста.
Tengiz Amirejibi International Music Festival: память и пианистический этос
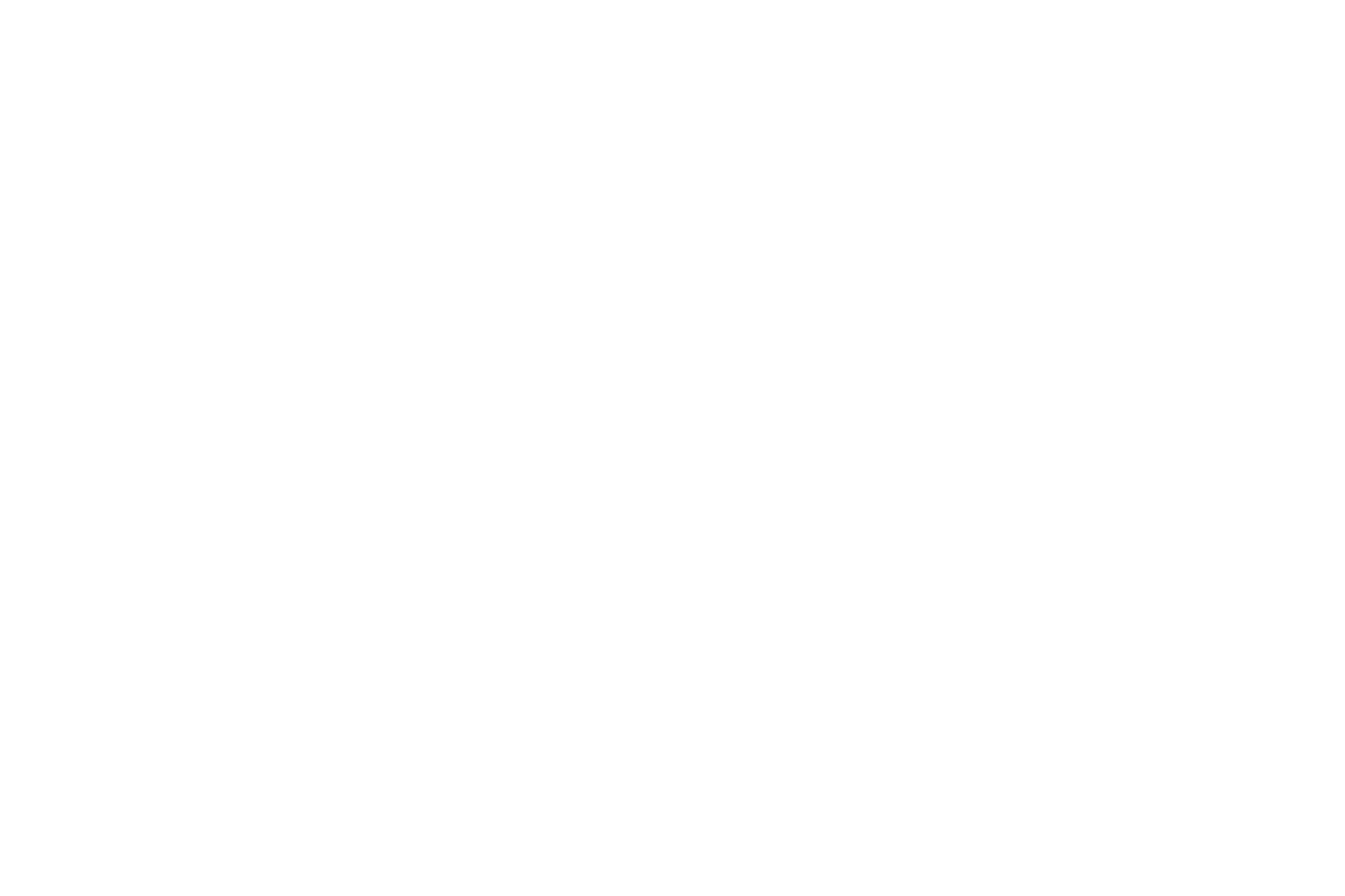
Имя Тенгиза Амирэджиби в грузинской культуре — это код, а не просто биографическая справка. Amirejibi Festival работает как ритуал сохранения фортепианной школы. В афише — рециталы, камерные вечера, международные программы, но акцент всегда один: пианистическая традиция как способ передачи памяти.
Концепция проекта строится вокруг ключевого понятия «пианистический этос». Рецитал в рамках фестиваля читается не как демонстрация индивидуального мастерства, а как акт наследования. Техника становится языком, программная архитектура — инструментом переосмысления национального пианистического искусства в глобальном контексте. Каждый концерт звучит как глава в «устной истории» грузинской фортепианной культуры.
Концепция проекта строится вокруг ключевого понятия «пианистический этос». Рецитал в рамках фестиваля читается не как демонстрация индивидуального мастерства, а как акт наследования. Техника становится языком, программная архитектура — инструментом переосмысления национального пианистического искусства в глобальном контексте. Каждый концерт звучит как глава в «устной истории» грузинской фортепианной культуры.
Toradze International Music Festival: постгероическая платформа
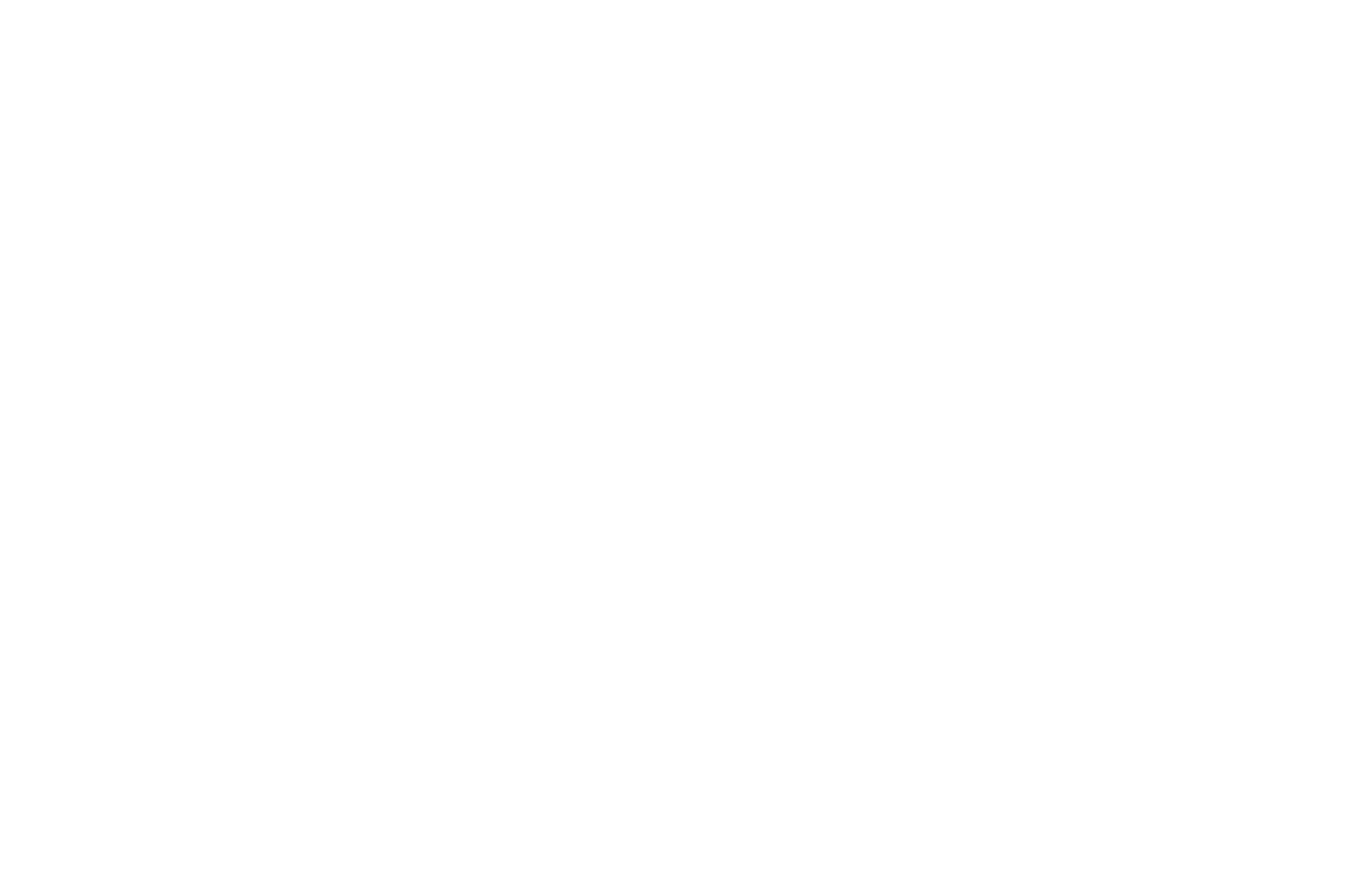
Фестиваль имени Александра (Лексо) Торадзе демонстрирует другой сценарий мемориализации. Toradze International Music Festival, организованный Toradze Foundation, превращает память о виртуозе в международный диалог. Уже первые три сезона (2023–2025) стали заметными в тбилисском календаре: в программах были концерты и мастер-классы зарубежных артистов, возникали неожиданные коллаборации и проекты, где представители разных культур обменивались опытом.
Это нарратив «постгероической институции»: фигура артиста становится точкой притяжения, но цель — не культ личности, а создание сети. Фестиваль работает как ежегодный акт репрезентации, где память о Торадзе трансформируется в практику культурного экспорта.
Это нарратив «постгероической институции»: фигура артиста становится точкой притяжения, но цель — не культ личности, а создание сети. Фестиваль работает как ежегодный акт репрезентации, где память о Торадзе трансформируется в практику культурного экспорта.
Tbilisi Piano Fest: инструмент как медиум XXI века
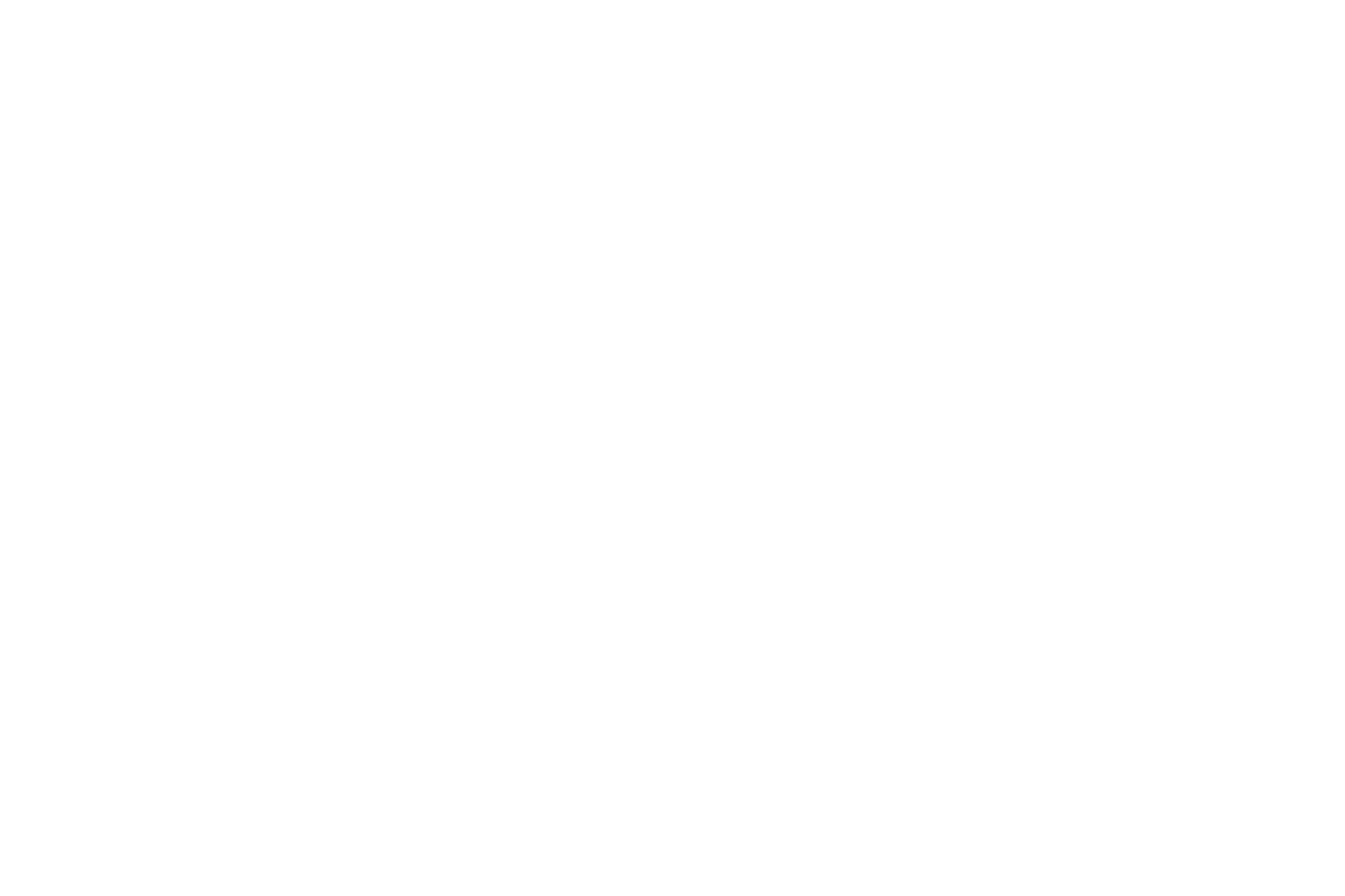
Tbilisi Piano Fest, под сильным кураторским управлением Дуданы Мазманишвили, выстраивает иной вектор — камерный, но интенсивный. Две недели вмещают в себя выступления молодых исполнителей, международных гостей, презентации новых грузинских сочинений и кроссовер-проектов.
Фортепиано здесь мыслится как медиум XXI века. Оно соединяет академию, worldwide, эксперимент и популярные жанры. Форматы — от камерных и задумчивых концертов в Библиотеке до огромного опен-эйра на одной из главных площадей города. И все это вокруг фортепиано, которое Штокхаузен «отменил» ещё в прошлом веке. Важнейший акцент фестивальной программы сделан на обучающих проектах — на мастер-классах и коллаборациях для молодых музыкантов. Piano Fest превращается в образовательный центр, где инструмент формирует сообщество, а не только служит сольной трибуной.
Фортепиано здесь мыслится как медиум XXI века. Оно соединяет академию, worldwide, эксперимент и популярные жанры. Форматы — от камерных и задумчивых концертов в Библиотеке до огромного опен-эйра на одной из главных площадей города. И все это вокруг фортепиано, которое Штокхаузен «отменил» ещё в прошлом веке. Важнейший акцент фестивальной программы сделан на обучающих проектах — на мастер-классах и коллаборациях для молодых музыкантов. Piano Fest превращается в образовательный центр, где инструмент формирует сообщество, а не только служит сольной трибуной.
Autumn Tbilisi: сезон как риторика
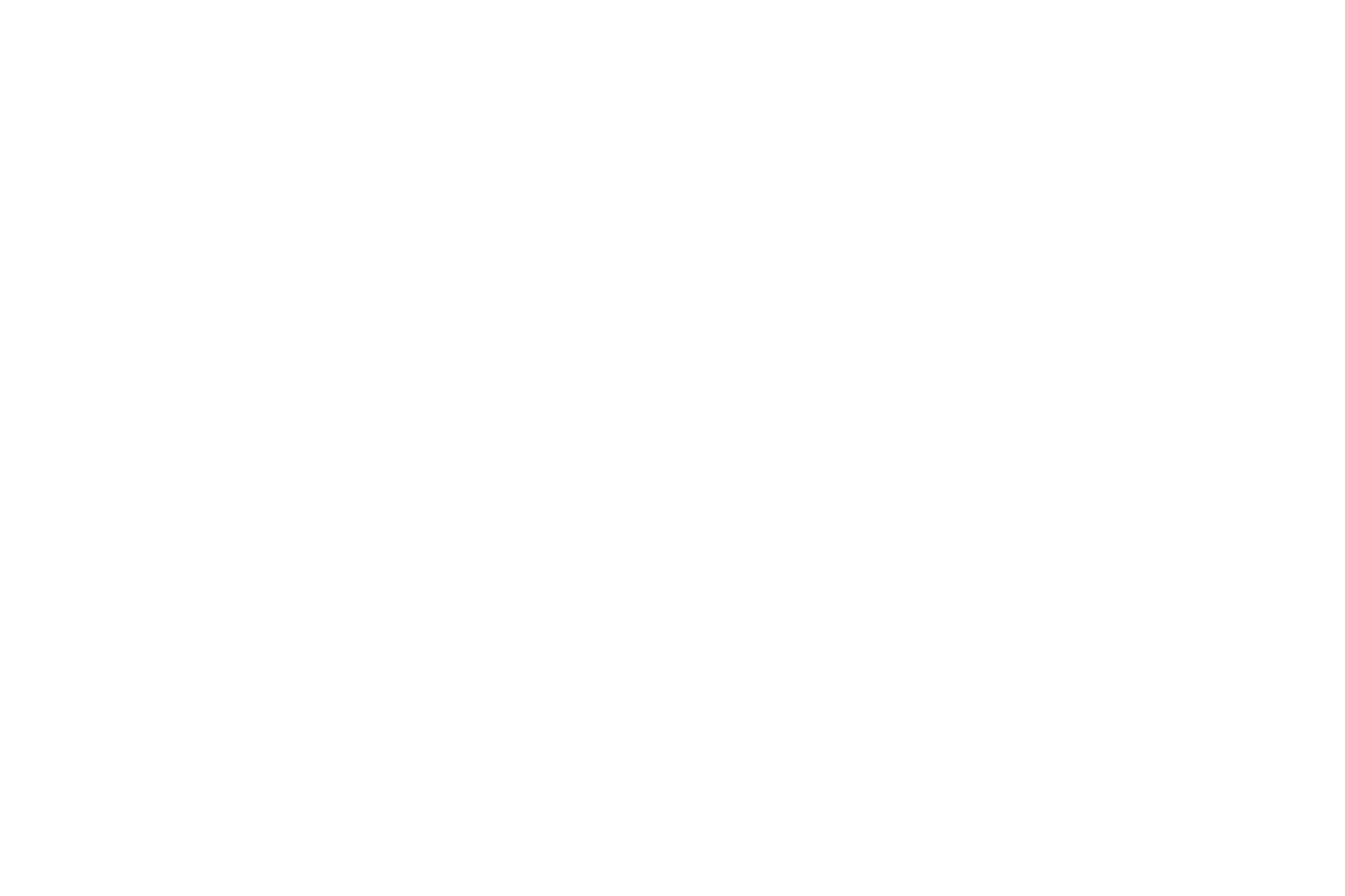
Один из старейших фестивалей Autumn Tbilisi, учреждённый Центром им. Джансуга Кахидзе, предлагает сезонность как риторику: осень становится метафорой цикличности, а программа объединяет симфоническую, камерную, хоровую и джазовую музыку. Музыковедческий акцент здесь сделан на систематизации памяти. В программах соседствуют сочинения Гии Канчели, национальная хоровая музыка и симфонии с джазовыми стандартами. Таким образом, Autumn Tbilisi конструирует национальный канон, который связан с исторической трацидией и в то же время открыт для диалога. Здесь — самые неожиданные программы: от кроссоверов на классику американской эстрады до вечеров современной грузинской академической музыки. И тут же — самая непредсказуемая аудитория. Необычайно демократичный фестиваль, который, кажется, собирает публику и артистов с призывом «зима близко, давайте греться».
Фестивали как лаборатории
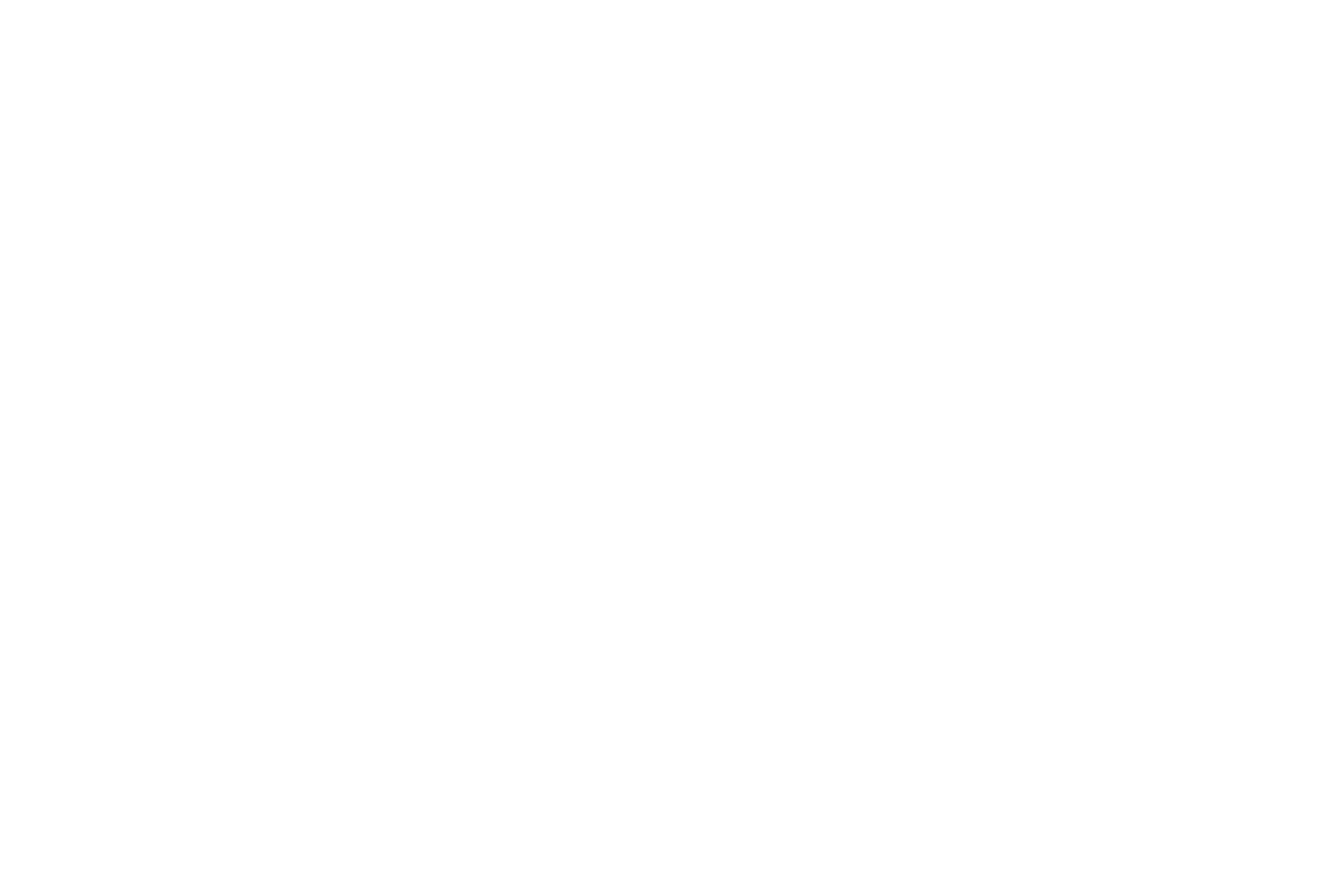
Каждый из грузинских фестивалей несёт собственный нарратив: Европа в винограднике, школа звука, пианистическая память, постгероическая институция, инструментальный медиум, сезонный симфонизм. Вместе они складываются в общий проект «музыка после утопии».
Грузинская фестивальная карта демонстрирует, что утраченный «сакральный обряд» XX века не исчез бесследно — он трансформировался в новые формы: институциональные, локальные, педагогические, экспериментальные. Утопия как единый сюжет уходит; остаётся повседневная работа — терпеливая, многоголосная, местами незаметная и неблагодарная. И в этой работе фестивали в Грузии — не побег от окружающего мира, а техника композиции реальности.
Грузинская фестивальная карта демонстрирует, что утраченный «сакральный обряд» XX века не исчез бесследно — он трансформировался в новые формы: институциональные, локальные, педагогические, экспериментальные. Утопия как единый сюжет уходит; остаётся повседневная работа — терпеливая, многоголосная, местами незаметная и неблагодарная. И в этой работе фестивали в Грузии — не побег от окружающего мира, а техника композиции реальности.
КАНТАТА БЕЗ ГЕРОЯ

Дина Якушевич
Арт-журналист, колумнист, искусствовед, создатель проектов для Île Thélème и musicAeterna, лектор, автор статей и рецензий в сфере современного искусства. Выпускница МГУ имени М.В. Ломоносова и НИУ ВШЭ со специализацией на искусстве итальянского маньеризма, магистрантка венецианского университета Ca’Foscari.
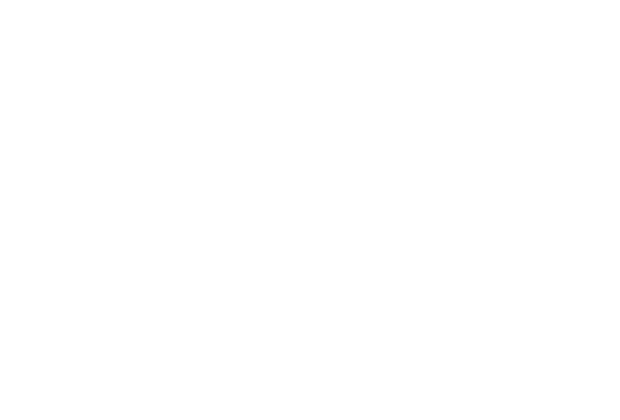
В романе Томаса Манна «Доктор Фаустус» музыка выступает в роли некоего символического знания: именно ради него главный герой, композитор Адриан Леверкюн, становится новым Фаустом и заключает договор с дьяволом. Доступ к сверхчеловеческому вдохновению даётся ему ценой душевного и физического здоровья, как, впрочем, и каждому условно второму композитору-академисту, никаких сделок с дьяволом не заключавшему. Леверкюн в своём вдохновении оказывается тесно спаян с коллективной эйфорией нацизма, они объединены стремлением выйти за собственные человеческие пределы. И то, и другое закончилось плохо. Герой переживает нравственную гибель, как переживают её грандиозные идеи о новом величии германской нации.
Конечно, такой фаустовский герой мог стать только композитором: музыка в Германии всегда была своеобразной формой культа. «Серьёзной ошибкой легенды было не связать Фауста с музыкой», — сказал Манн в своей лекции «Германия и немцы», прочитанной в Библиотеке Конгресса 29 мая 1945 года. «Если Фауст должен быть представителем немецкой души, он может быть только музыкантом, ибо отношение немца к миру абстрактно и мистично, то есть — музыкально».
Параллели между Леверкюном и целой вереницей знаковых для немецкой культуры фигур очевидны — здесь и Ницше, заразившийся сифилисом в борделе, и Лютер, и Бетховен с его болезненной привязанностью к своему племяннику; первым же номером идет Арнольд Шёнберг, додекафонную систему которого Манн практически целиком позаимствовал для романа. Композитор, будучи человеком сложным, был этим до крайности недоволен и посчитал описание системы Леверкюна чуть ли не кражей своей интеллектуальной собственности. Однако нельзя не заметить: да, Шёнберг одним из первых пришел к идее создания собственной системы сочинения, но именно Манн этот процесс мистифицирует, наделяет апокалиптическим флёром, облекает интеллектуальную революцию в одежды революции нравственной.
Конечно, такой фаустовский герой мог стать только композитором: музыка в Германии всегда была своеобразной формой культа. «Серьёзной ошибкой легенды было не связать Фауста с музыкой», — сказал Манн в своей лекции «Германия и немцы», прочитанной в Библиотеке Конгресса 29 мая 1945 года. «Если Фауст должен быть представителем немецкой души, он может быть только музыкантом, ибо отношение немца к миру абстрактно и мистично, то есть — музыкально».
Параллели между Леверкюном и целой вереницей знаковых для немецкой культуры фигур очевидны — здесь и Ницше, заразившийся сифилисом в борделе, и Лютер, и Бетховен с его болезненной привязанностью к своему племяннику; первым же номером идет Арнольд Шёнберг, додекафонную систему которого Манн практически целиком позаимствовал для романа. Композитор, будучи человеком сложным, был этим до крайности недоволен и посчитал описание системы Леверкюна чуть ли не кражей своей интеллектуальной собственности. Однако нельзя не заметить: да, Шёнберг одним из первых пришел к идее создания собственной системы сочинения, но именно Манн этот процесс мистифицирует, наделяет апокалиптическим флёром, облекает интеллектуальную революцию в одежды революции нравственной.
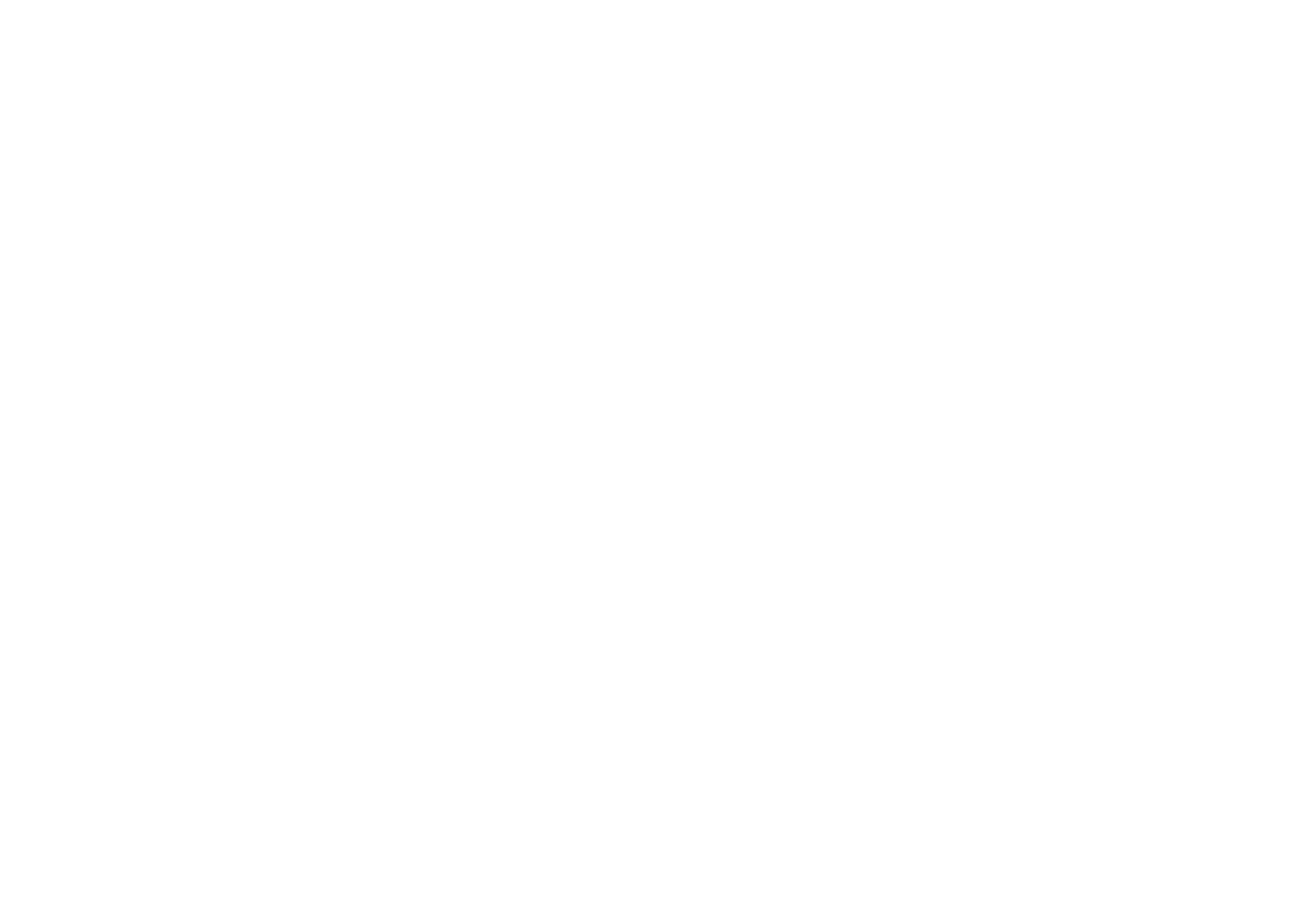
Арнольд Шёнберг
В ходе своего становления Леверкюн обнаруживает, что европейская композиторская традиция находится в глубоком кризисе и что традиционное музыкальное произведение более не может восприниматься серьёзно. Оно никак не отвечает современной ему социальной ситуации, — а точнее, её дисгармоничности. Поэтому, — решает он, — музыка будущего должна быть непременно переосмыслена. Леверкюну, как и Германии, с которой он ассоциирован, нужен был некий глобальный прорыв, durchbrechen, который очистил бы пространство от клише позднего романтизма; для этого он изобретает свой так называемый строгий композиционный стиль, всеобщую организацию музыки, чтобы различные её элементы — мелодия, гармония, контрапункт — перестали болтаться безо всякого плана и были наконец приведены к единому знаменателю. Так появляется знакомая система, основанная на серии — ряде из двенадцати полутонов, из которых, как из цветных фишек, складывается сперва музыкальная мысль, а затем выводится всё произведение целиком. Ни одна нота не должна повторяться, пока все ноты ряда не прозвучат. Свободные ноты больше не должны существовать никогда.
В романе Манна додекафония существует не только в качестве удачного концепта: она воплощена на уровне словотворения и музыкальности самого языка. На уровне сеттинга музыка в целом проявляется в крайне изобретательном наполнении текста звучанием музыкальных инструментов в магазине дяди Леверкюна, колокольчиков, металлических молоточков, ксилофонов, дребезжанием старого фортепиано; в тексте почти не упоминаются полновесные симфонические звучания, и даже в описании кантаты Леверкюна Манн использует в основном характеристики тонкости, хрустальности, «колокольчиковости», сонорные эффекты металлических переборов и позвякиваний. Эти перезвоны создают некий сверхчеловеческий, надлитературный саунд, ту самую музыку сфер.
На содержательном уровне здесь много отсылок к разным композиторским почеркам, например Гайдна, с «Прощальной симфонией» которого ассоциируется финал «Плача доктора Фаустуса». Леверкюн изучает контрапункт, а значит, в тексте незримо присутствуют Бах, немецкая органная школа в полном составе и Бетховен, сонатам которого посвящены длинные монологи Кречмара. Кантата «Плач доктора Фаустуса» здесь не что иное, как антитеза Девятой симфонии, противопоставление дьявольского божественному. («Я отказываюсь». — «От чего, Адриан?» — «От Девятой симфонии».)
Серийная техника интересна Манну не только своим дьявольским конструктивистским характером: интересно представить, как она сказывается на структуре романа, на космогонии проекта под названием «Жизнеописание Адриана Леверкюна». Такие романы воспитания очень похожи на жанр симфонической поэмы, адептами которого были Ференц Лист, тоже, кстати, увлекавшийся фаустианско-мефистофельской темой, и Рихард Штраус. Причина схожести — в монотематизме. Первым и главным элементом в монотематическом произведении выступает определенная тема, ядро, содержащее колоссальный потенциал к дальнейшему развитию; затем это ядро трансформируется и приобретает всё новые и новые формы. Примерно по этому принципу строятся и все романы о творческом пути: «Мартин Иден», «Луна и грош», «Стоунер» — герой в литературном романе и есть эта главная тема, проходящая череду препятствий и приобретающая всё новые качества. При этом его развитие представляет собой примерно один материал, последовательно развертывающийся во времени.
Можно сказать, что герой вышеописанных романов-поэм, романов творческого пути — это тональность: как сила гравитации, он всё притягивает к себе, и все остальные тоны, эпизоды и смысловые конструкции как бы притягиваются к нему.
Но в серийной технике нет тональности, и в «Докторе Фаустусе» её тоже нет. Пока Леверкюн отрицает старую музыку, его литературный образ отрицает классическую формацию героя.
В серии звуки не вполне соотносятся друг с другом, словно они находятся в безвоздушном пространстве: явных тяготений между ними нет. В романе такой независимой музыкальной мыслью становится каждый новый эпизод, каждое отступление, мыслеформа. За счёт этой абстрактности образуется особая разреженная материя, в которой нет классического поступательного развития; это скорее длинная череда зеркальных отражений, повторов и вариаций на главное тематическое ядро, которые наслаиваются друг на друга, множась и дробясь в бесконечном палимпсесте.
Вокруг образов Фауста и Леверкюна звучит целая череда вариаций на фаустианскую тему: это персонажи-двойники — Кречмар, Бетховен, Иоганн Конрад Бейсель — все они в каком-то смысле развивают главную тему, основываясь на одном и том же звукоряде, и образы их самовоспроизводятся, как в форме рондо или в трехпятичастной форме. Шильдкнап бесконечно препирается со своим отражением в зеркале, дом детства Леверкюна в Бюхеле дублируется последним его домом, отцы семейств в романе умирают исключительно в возрасте семидесяти пяти лет. Цейтблом тоже рассказывает историю Леверкюна непоследовательно, бесконечно перебивая самого себя и забегая вперед.
Время в музыке авангарда как бы теряет свою линейность и превращается в спираль: своей структурой «Доктор Фаустус» походит именно на неё. И все образы романа словно объединяются этой музыкальной, спиралевидной логикой, а текст превращается в одно большое додекафонное произведение.
В музыке обожаемого Манном прошлого композитор выражает своё субъективное начало в им одним созданной теме, развивая её в соответствии с традиционными канонами гармонии и формы. В новом методе Леверкюна тема аморфна, внематериальна, её можно сформировать лишь механистическими средствами, игнорируя естественные творческие инстинкты; композитор комбинирует составы, как алхимик, пишет их, как код. Вместо героя теперь — музыкальный строй, а эпохе великих авторских голосов закономерно пришёл конец.
При этом тема смерти традиционного авторства в искусстве почему-то всё ещё невероятно актуальна, и на удивление хорошо ложится в реалии века XXI, почти через сто лет после завершения романа.
Интересно вообразить, чем бы занимался современный Леверкюн, родившийся и выросший в эпоху метамодернизма и нейросетей: в чём сегодня бы заключалась его дьявольская революция. Можно предположить, как он исследует инфразвук и белый шум, добавляет к аналоговым звучаниям эффекты техно и магнитофонной ленты. Но, кажется, и это уже не передовой подход: дьявол пошёл бы дальше. Возможно, Леверкюн, пользуясь технологическими достижениями современности, мог бы вживить в своё тело некие чипы — с их помощью он смог бы обаять или воспроизводить тот звук, который человек услышать ушами не способен. Возможно, благодаря этому он стал бы настоящей постгуманистической рок-звездой, богом из машины, который производит с помощью своего собственного тела некий мета-звук — или же те виды звука, слышимые и неслышимые, которые созданы не человеком, но материей: гул подземных вод, скрип деревьев, звон металлической ограды, движение облаков.
Пофантазировав, легко представить, что он бы присоединился к проекту Cyborg Project, объединению каталонских музыкантов и перформеров, и наверняка стал бы его лидером. Этот фонд существует больше десяти лет, а его основатель, композитор Нил Харбиссон, является первым в мире признанным киборгом. Родившийся с ахроматопсией, он не различает цвета, и поэтому разработал eyeborg — антенну, которая была имплантирована прямо в его череп. Благодаря ей чип сообщает звуковую частоту того или иного цвета прямо в мозг. Более того, Нил даже одевается согласно определённой гармонии: он может нарядиться в до-мажорный аккорд, узнать, как звучит лицо человека, послушать полотно Пикассо. Супермаркеты его шокируют: по его словам, посещение магазина сравнимо с небольшим рейвом.
В романе Манна додекафония существует не только в качестве удачного концепта: она воплощена на уровне словотворения и музыкальности самого языка. На уровне сеттинга музыка в целом проявляется в крайне изобретательном наполнении текста звучанием музыкальных инструментов в магазине дяди Леверкюна, колокольчиков, металлических молоточков, ксилофонов, дребезжанием старого фортепиано; в тексте почти не упоминаются полновесные симфонические звучания, и даже в описании кантаты Леверкюна Манн использует в основном характеристики тонкости, хрустальности, «колокольчиковости», сонорные эффекты металлических переборов и позвякиваний. Эти перезвоны создают некий сверхчеловеческий, надлитературный саунд, ту самую музыку сфер.
На содержательном уровне здесь много отсылок к разным композиторским почеркам, например Гайдна, с «Прощальной симфонией» которого ассоциируется финал «Плача доктора Фаустуса». Леверкюн изучает контрапункт, а значит, в тексте незримо присутствуют Бах, немецкая органная школа в полном составе и Бетховен, сонатам которого посвящены длинные монологи Кречмара. Кантата «Плач доктора Фаустуса» здесь не что иное, как антитеза Девятой симфонии, противопоставление дьявольского божественному. («Я отказываюсь». — «От чего, Адриан?» — «От Девятой симфонии».)
Серийная техника интересна Манну не только своим дьявольским конструктивистским характером: интересно представить, как она сказывается на структуре романа, на космогонии проекта под названием «Жизнеописание Адриана Леверкюна». Такие романы воспитания очень похожи на жанр симфонической поэмы, адептами которого были Ференц Лист, тоже, кстати, увлекавшийся фаустианско-мефистофельской темой, и Рихард Штраус. Причина схожести — в монотематизме. Первым и главным элементом в монотематическом произведении выступает определенная тема, ядро, содержащее колоссальный потенциал к дальнейшему развитию; затем это ядро трансформируется и приобретает всё новые и новые формы. Примерно по этому принципу строятся и все романы о творческом пути: «Мартин Иден», «Луна и грош», «Стоунер» — герой в литературном романе и есть эта главная тема, проходящая череду препятствий и приобретающая всё новые качества. При этом его развитие представляет собой примерно один материал, последовательно развертывающийся во времени.
Можно сказать, что герой вышеописанных романов-поэм, романов творческого пути — это тональность: как сила гравитации, он всё притягивает к себе, и все остальные тоны, эпизоды и смысловые конструкции как бы притягиваются к нему.
Но в серийной технике нет тональности, и в «Докторе Фаустусе» её тоже нет. Пока Леверкюн отрицает старую музыку, его литературный образ отрицает классическую формацию героя.
В серии звуки не вполне соотносятся друг с другом, словно они находятся в безвоздушном пространстве: явных тяготений между ними нет. В романе такой независимой музыкальной мыслью становится каждый новый эпизод, каждое отступление, мыслеформа. За счёт этой абстрактности образуется особая разреженная материя, в которой нет классического поступательного развития; это скорее длинная череда зеркальных отражений, повторов и вариаций на главное тематическое ядро, которые наслаиваются друг на друга, множась и дробясь в бесконечном палимпсесте.
Вокруг образов Фауста и Леверкюна звучит целая череда вариаций на фаустианскую тему: это персонажи-двойники — Кречмар, Бетховен, Иоганн Конрад Бейсель — все они в каком-то смысле развивают главную тему, основываясь на одном и том же звукоряде, и образы их самовоспроизводятся, как в форме рондо или в трехпятичастной форме. Шильдкнап бесконечно препирается со своим отражением в зеркале, дом детства Леверкюна в Бюхеле дублируется последним его домом, отцы семейств в романе умирают исключительно в возрасте семидесяти пяти лет. Цейтблом тоже рассказывает историю Леверкюна непоследовательно, бесконечно перебивая самого себя и забегая вперед.
Время в музыке авангарда как бы теряет свою линейность и превращается в спираль: своей структурой «Доктор Фаустус» походит именно на неё. И все образы романа словно объединяются этой музыкальной, спиралевидной логикой, а текст превращается в одно большое додекафонное произведение.
В музыке обожаемого Манном прошлого композитор выражает своё субъективное начало в им одним созданной теме, развивая её в соответствии с традиционными канонами гармонии и формы. В новом методе Леверкюна тема аморфна, внематериальна, её можно сформировать лишь механистическими средствами, игнорируя естественные творческие инстинкты; композитор комбинирует составы, как алхимик, пишет их, как код. Вместо героя теперь — музыкальный строй, а эпохе великих авторских голосов закономерно пришёл конец.
При этом тема смерти традиционного авторства в искусстве почему-то всё ещё невероятно актуальна, и на удивление хорошо ложится в реалии века XXI, почти через сто лет после завершения романа.
Интересно вообразить, чем бы занимался современный Леверкюн, родившийся и выросший в эпоху метамодернизма и нейросетей: в чём сегодня бы заключалась его дьявольская революция. Можно предположить, как он исследует инфразвук и белый шум, добавляет к аналоговым звучаниям эффекты техно и магнитофонной ленты. Но, кажется, и это уже не передовой подход: дьявол пошёл бы дальше. Возможно, Леверкюн, пользуясь технологическими достижениями современности, мог бы вживить в своё тело некие чипы — с их помощью он смог бы обаять или воспроизводить тот звук, который человек услышать ушами не способен. Возможно, благодаря этому он стал бы настоящей постгуманистической рок-звездой, богом из машины, который производит с помощью своего собственного тела некий мета-звук — или же те виды звука, слышимые и неслышимые, которые созданы не человеком, но материей: гул подземных вод, скрип деревьев, звон металлической ограды, движение облаков.
Пофантазировав, легко представить, что он бы присоединился к проекту Cyborg Project, объединению каталонских музыкантов и перформеров, и наверняка стал бы его лидером. Этот фонд существует больше десяти лет, а его основатель, композитор Нил Харбиссон, является первым в мире признанным киборгом. Родившийся с ахроматопсией, он не различает цвета, и поэтому разработал eyeborg — антенну, которая была имплантирована прямо в его череп. Благодаря ей чип сообщает звуковую частоту того или иного цвета прямо в мозг. Более того, Нил даже одевается согласно определённой гармонии: он может нарядиться в до-мажорный аккорд, узнать, как звучит лицо человека, послушать полотно Пикассо. Супермаркеты его шокируют: по его словам, посещение магазина сравнимо с небольшим рейвом.
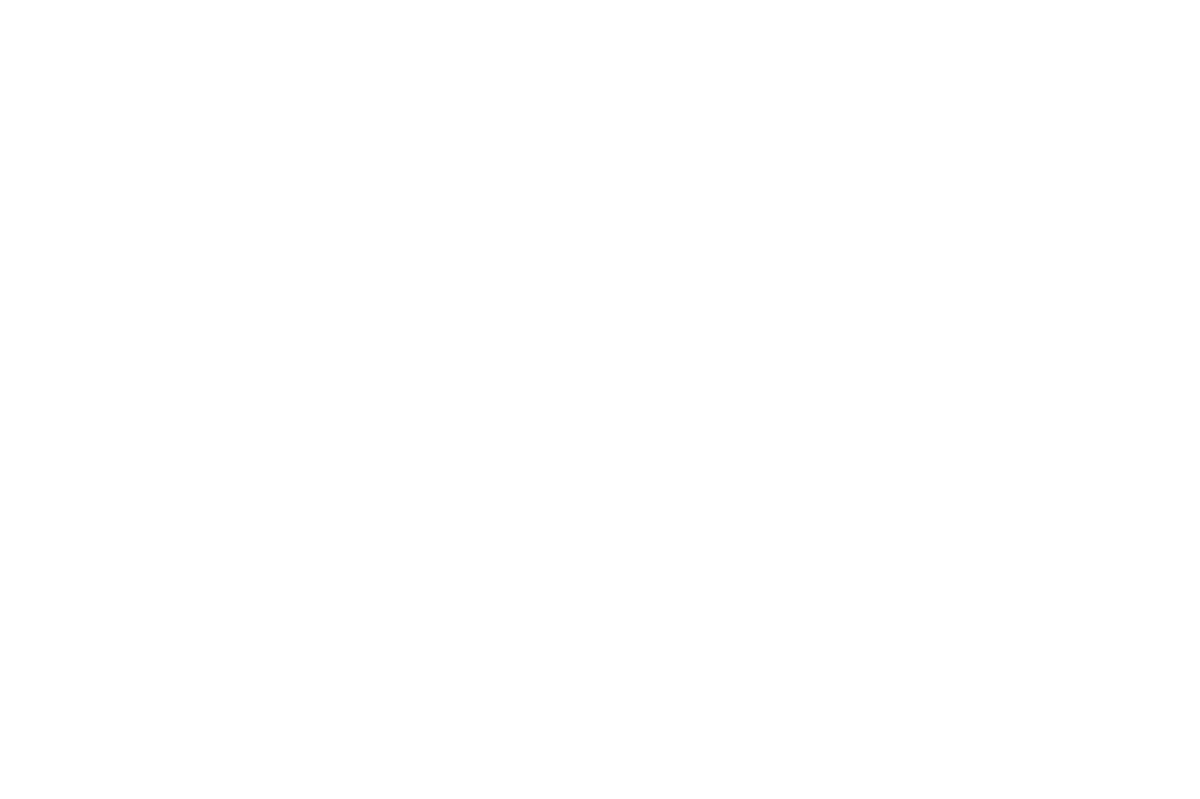
Нил Харбиссон
Сегодня Cyborg Project строится вокруг четырёх «киборгов». Кроме Харбиссона в нём участвуют Мун Рибас, Мануель де Агуас и Поль Ломбарте. Мун Рибас создала Seismic Sense — онлайн-сенсор, вживляемый в стопы и позволяющий в реальном времени ощущать вибрации землетрясений. Затем эти вибрации Мун превращает в звук в перформансе Seismic Percussion, в котором Земля, по сути, выступает композитором и хореографом, а Рибас становится интерпретатором. Если во время перформанса где-то происходит землетрясение хоть в один балл по шкале Рихтера, Мун играет на барабане в соответствии с интенсивностью этого землетрясения. Если землетрясений нет, звука тоже не будет.
Мануэль де Агуас разработал погодные датчики, которые позволяют ему слышать атмосферное давление, температуру и влажность через импланты, расположенные по бокам головы, похожие на пару эльфийских ушей. С их помощью он создаёт звуковые ландшафты, позволяя публике в реальном времени переживать различные климатические состояния планеты через звук.
А Поль Ломбарте создал киборг-сердце, передающее его собственные сердцебиения в NFT по Wi-Fi с помощью трёх электродов, закреплённых на его теле.
Это жутко, это красиво, это даёт акторам-киборгам ощущение всемогущества. Это очень по-леверкюновски.
Если в ХХ веке Дьявол вдохновил Адриана на изобретение, по сути, новой технологии, убившей тональность, как знать, может, Леверкюн века XVI изобрёл бы полифонию? Контрапункт в сравнении с природной гравитацией одноголосия — это вершина умствования. Быть может, он изобрёл бы темперированный строй? Быть может, к его достижениям можно было бы отнести все технические музыкальные новации: алеаторику, алгоритмическую музыку, звукозапись, синтез звука? Быть может, именно с помощью технологий XXI века Леверкюн всё-таки смог воссоздать настоящую музыку сфер?
Хотя, — положа руку на сердце, сложно представить музыку сфер в круге специальных интересов Леверкюна. Если вообразить себе звучание его сочинений, то в ушах почему-то возникает Борис Тищенко, а не Шёнберг, Веберн, Вагнер или Малер. Возможно, именно в духе его симфонического цикла, посвящённого Данте, звучал бы «Плач доктора Фаустуса». Интересно, что сам Томас Манн находился скорее в поле вагнерианства: он даже заметил однажды, что, будучи композитором, писал бы, пожалуй, как Сезар Франк. Его авторская эстетика вся целиком в традиции, в bürgerliche Kunst XIX века.
Так, даже в этом Леверкюн отделяется от своего создателя и оспаривает его самого.
Мануэль де Агуас разработал погодные датчики, которые позволяют ему слышать атмосферное давление, температуру и влажность через импланты, расположенные по бокам головы, похожие на пару эльфийских ушей. С их помощью он создаёт звуковые ландшафты, позволяя публике в реальном времени переживать различные климатические состояния планеты через звук.
А Поль Ломбарте создал киборг-сердце, передающее его собственные сердцебиения в NFT по Wi-Fi с помощью трёх электродов, закреплённых на его теле.
Это жутко, это красиво, это даёт акторам-киборгам ощущение всемогущества. Это очень по-леверкюновски.
Если в ХХ веке Дьявол вдохновил Адриана на изобретение, по сути, новой технологии, убившей тональность, как знать, может, Леверкюн века XVI изобрёл бы полифонию? Контрапункт в сравнении с природной гравитацией одноголосия — это вершина умствования. Быть может, он изобрёл бы темперированный строй? Быть может, к его достижениям можно было бы отнести все технические музыкальные новации: алеаторику, алгоритмическую музыку, звукозапись, синтез звука? Быть может, именно с помощью технологий XXI века Леверкюн всё-таки смог воссоздать настоящую музыку сфер?
Хотя, — положа руку на сердце, сложно представить музыку сфер в круге специальных интересов Леверкюна. Если вообразить себе звучание его сочинений, то в ушах почему-то возникает Борис Тищенко, а не Шёнберг, Веберн, Вагнер или Малер. Возможно, именно в духе его симфонического цикла, посвящённого Данте, звучал бы «Плач доктора Фаустуса». Интересно, что сам Томас Манн находился скорее в поле вагнерианства: он даже заметил однажды, что, будучи композитором, писал бы, пожалуй, как Сезар Франк. Его авторская эстетика вся целиком в традиции, в bürgerliche Kunst XIX века.
Так, даже в этом Леверкюн отделяется от своего создателя и оспаривает его самого.
ИНТЕРВЬЮ С САМИМ СОБОЙ
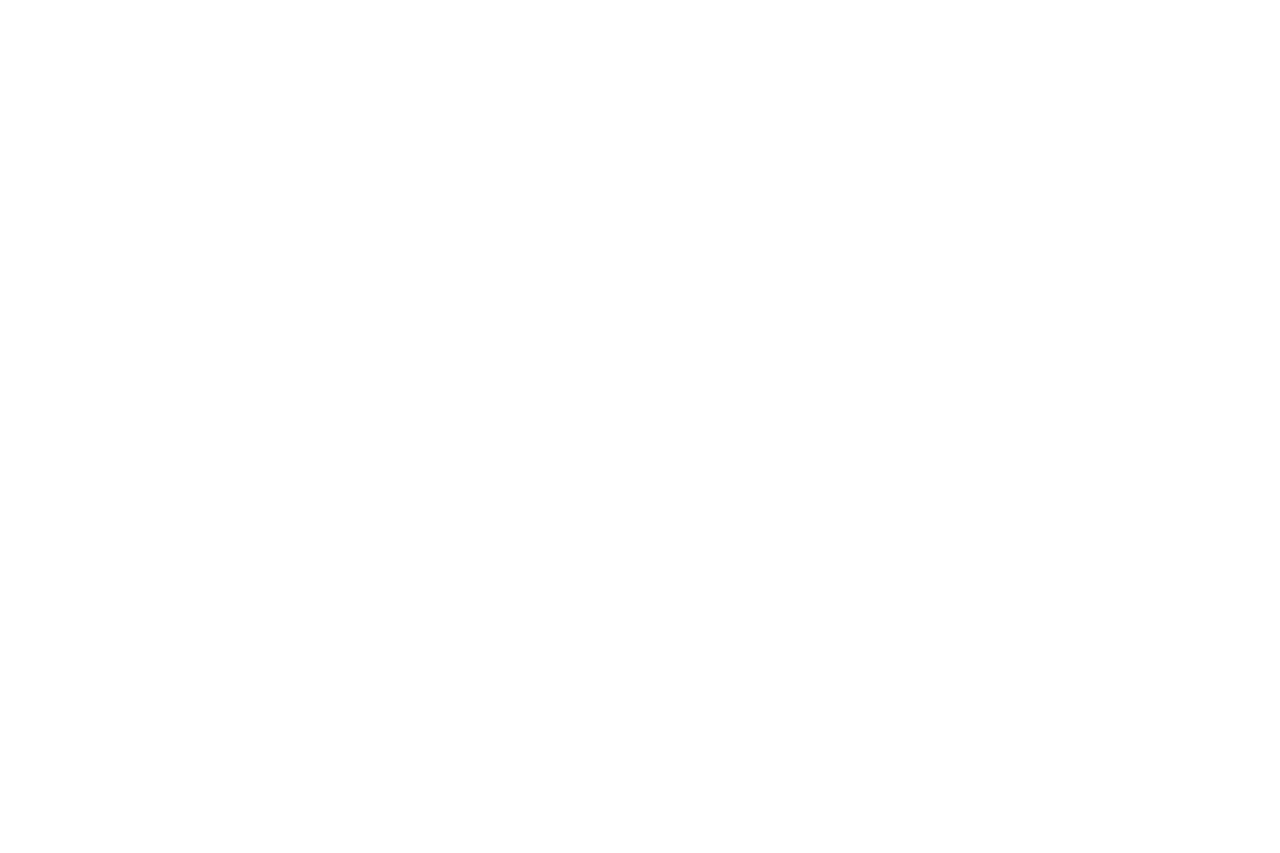
Фото — Анастасия Ким
Ф.С. (Фёдор Софронов): Когда Вы впервые услышали слово нарратив применительно к музыке?
Ф.С. (Фёдор Софронов): Было это в детстве, в музыкальной школе. Мне задали разучивать сказку Метнера фа минор. Там вот что написано вместо указания темпа: Narrante a piacere. И если вторую половину я знал уже, как перевести (хотя такие ремарки и озадачивают исполнителя), то первая меня озадачила ещё больше, когда я узнал перевод. То есть как это — рассказывая? А о чём? Мне точно говорили на уроках музыкальной литературы, что рассказывает музыка Грига из «Пер Гюнта», например. А в подготовительном классе поставили двойку за то, что я пытался истолковать содержание ля-бемоль мажорного экспромта Шуберта следующим образом: «мальчика не хотят пускать в самолёт с козликом, мальчику грустно, мальчик плачет». Поэтому я даже не пытался истолковывать музыкальное содержание с тех пор! И Метнер мне не оставляет даже намёка, про что мне играть! И вот я снова стал впихивать козла в самолёт попытался понять, что значат эти чудовищные дубль-бемоли и из-за чего появляются уменьшенные и малые минорные септаккорды, сменяющие наивную диатонику первого раздела. «Что-то пошло не так», — подумал я. А что? И только потом я понял, что главное здесь не «что», а «пошло».
Ф.С.: Тут Вы спонтанно пришли к выводу американского музыковеда и композитора Эдварда Коуна, который утверждал, что в ремарках и в музыкальной терминологии вообще содержится музыкальный нарратив. В пример он приводил как раз «пошло», иначе Andante — «шагом».
Ф.С.: Да, и ещё «вождя» и «спутника» в фуге он вспоминал. Но шаг, именно шаги есть в других сказках Метнера! А в этой нет и намёка на Andante, здесь — Narrante! Рассказ идёт! Не важно, о чём!
Ф.С. (Фёдор Софронов): Было это в детстве, в музыкальной школе. Мне задали разучивать сказку Метнера фа минор. Там вот что написано вместо указания темпа: Narrante a piacere. И если вторую половину я знал уже, как перевести (хотя такие ремарки и озадачивают исполнителя), то первая меня озадачила ещё больше, когда я узнал перевод. То есть как это — рассказывая? А о чём? Мне точно говорили на уроках музыкальной литературы, что рассказывает музыка Грига из «Пер Гюнта», например. А в подготовительном классе поставили двойку за то, что я пытался истолковать содержание ля-бемоль мажорного экспромта Шуберта следующим образом: «мальчика не хотят пускать в самолёт с козликом, мальчику грустно, мальчик плачет». Поэтому я даже не пытался истолковывать музыкальное содержание с тех пор! И Метнер мне не оставляет даже намёка, про что мне играть! И вот я снова стал впихивать козла в самолёт попытался понять, что значат эти чудовищные дубль-бемоли и из-за чего появляются уменьшенные и малые минорные септаккорды, сменяющие наивную диатонику первого раздела. «Что-то пошло не так», — подумал я. А что? И только потом я понял, что главное здесь не «что», а «пошло».
Ф.С.: Тут Вы спонтанно пришли к выводу американского музыковеда и композитора Эдварда Коуна, который утверждал, что в ремарках и в музыкальной терминологии вообще содержится музыкальный нарратив. В пример он приводил как раз «пошло», иначе Andante — «шагом».
Ф.С.: Да, и ещё «вождя» и «спутника» в фуге он вспоминал. Но шаг, именно шаги есть в других сказках Метнера! А в этой нет и намёка на Andante, здесь — Narrante! Рассказ идёт! Не важно, о чём!
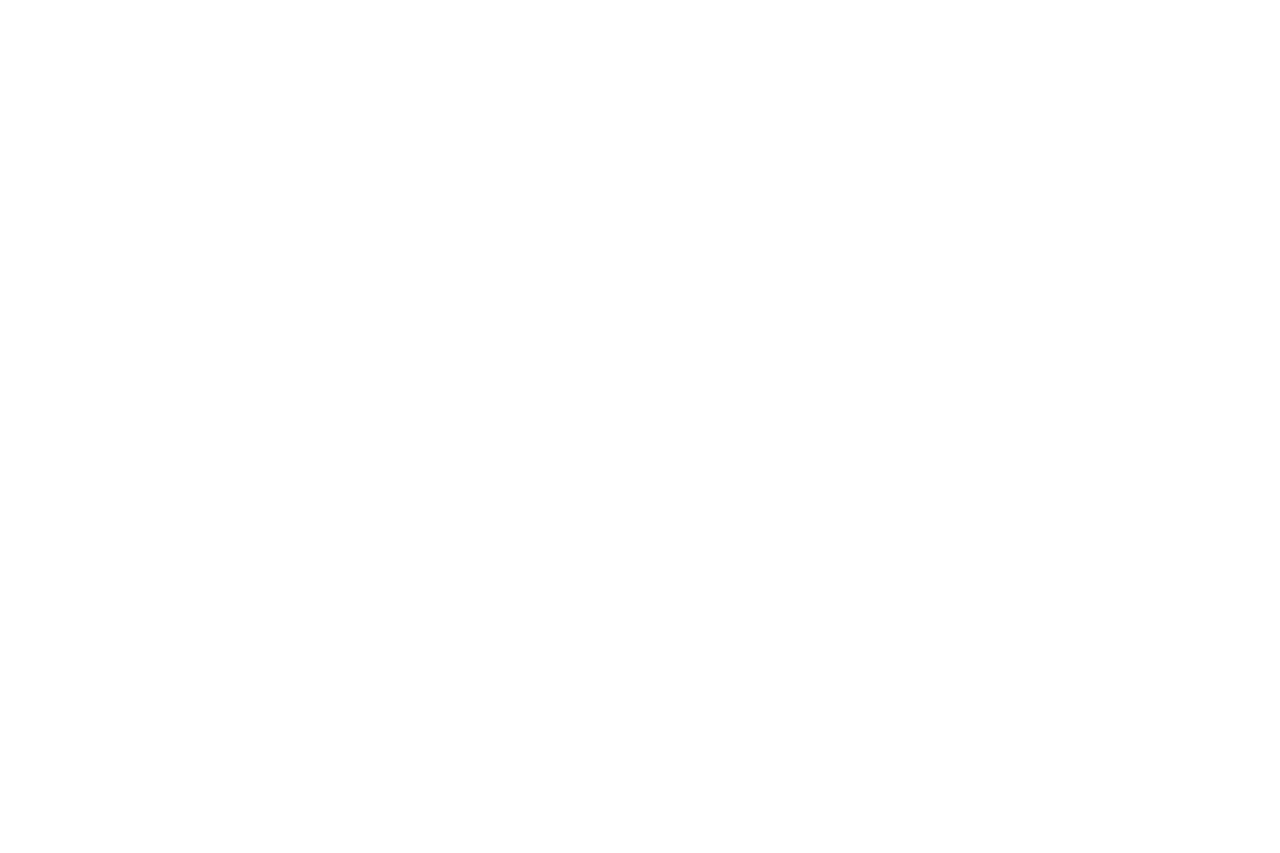
Фото — Анастасия Ким
Ф.С.: Так вот, «идёт» оказывается важнее, чем «что» в этом словосочетании. И об этом я стал задумываться уже в юности, когда одновременно читал в свежем издании Барта и в дореволюционном — Ганслика. А одновременно сочинял, и мне хотелось выразить свои юношеские страдания в звуках. Сочинял квартеты, квинтеты. В них были кварты, квинты и всегда «происходило что-то страшное».
Ф.С.: А что происходило-то?
Ф.С.: Ну, были какие-то лапидарные темы, которые сталкивались друг с другом в разработках и порождали ужасающие кульминации, за которыми следовали мрачные репризы, — всё, как мы любим. И я знал, это «про меня», но ещё не подозревал, что слушатели подумают, что это «про них». Эти сочинения, к счастью, не были исполнены! Мой преподаватель в училище Баташов честно говорил, что лучше бы я писал маленькие пьесы и следил за интервалами и фактурой. Он любил Стравинского и стоял на позициях Ганслика. И не советовал мне поражать слушателей эффектами, позаимствованными у Малера и Мясковского. А скоро и я пришел к выводу, что пытаюсь вновь, в очередной раз запихнуть в самолет козла. То есть литературу — в музыку.
Ф.С.: А-а-а, а что же тогда Барт?
Ф.С.: А вот Барт подсказал мне, что история как раз и рассказывается так: жил да был композитор, сначала он сочинял плохо и про неинтересное (про себя и для себя), и профессор ему ставил двойки, а потом он стал писать для других (и не только для профессора) и про интересное, и стало ему хорошо.
Ф.С.: А что интересное?
Ф.С.: Конечно, само письмо! L’écriture! Я отдался исследованию звуковой материи.
Ф.С.: То есть, нарратив продолжался?
Ф.С.: Да.
Ф.С.: И как?
Ф.С.: Я стал рассказывать историю о себе самим собой, превращая жизнь в перформанс, а музыка стала его частью. Писать стало сложно, и я обратился к совершенно антимузыкальным, кажется, вещам. Просматривая огромный каталог выставки Гогена в Пушкинском музее, я пытался понять, о чём пишет Гоген. И тут-то я понял, что главное в живописи, как и в музыке, — вчувствование, вживание в… хотел сказать «образ», но осёкся. В жест — так точнее будет определить. Жест живописца, жест композитора вдруг оказался для меня определяющим моментом в восприятии. И мне показалось, что каждый жест похож на молчаливый, неспетый голос, о котором пишет в своей книге Кэролайн Эббейт. Вот что она говорит в предисловии к своей книге «Неспетые голоса»:
«<…> фактически, я наделяю отдельные музыкальные моменты лицами, а значит, языками и особым звучащим присутствием. Я создаю голоса из музыкального дискурса. Меня волновали вопросы: как эти сконструированные «они» как будто говорят? Почему мы их слышим? Какова их сила? Какие именно музыкальные жесты можно истолковать как выдающие их присутствие? Все шесть последующих глав пытаются восстановить эти голоса, которые — отсюда один из смыслов моего названия — для меня остались незамеченными, неспетыми. Чувствительность к этому сконструированному присутствию означает обладание тем самым “вторым слухом” (слуховой формой “второго зрения”), которое, надеюсь, воскрешает чувство того, что есть сверхъестественного в музыке».
Ф.С.: А что происходило-то?
Ф.С.: Ну, были какие-то лапидарные темы, которые сталкивались друг с другом в разработках и порождали ужасающие кульминации, за которыми следовали мрачные репризы, — всё, как мы любим. И я знал, это «про меня», но ещё не подозревал, что слушатели подумают, что это «про них». Эти сочинения, к счастью, не были исполнены! Мой преподаватель в училище Баташов честно говорил, что лучше бы я писал маленькие пьесы и следил за интервалами и фактурой. Он любил Стравинского и стоял на позициях Ганслика. И не советовал мне поражать слушателей эффектами, позаимствованными у Малера и Мясковского. А скоро и я пришел к выводу, что пытаюсь вновь, в очередной раз запихнуть в самолет козла. То есть литературу — в музыку.
Ф.С.: А-а-а, а что же тогда Барт?
Ф.С.: А вот Барт подсказал мне, что история как раз и рассказывается так: жил да был композитор, сначала он сочинял плохо и про неинтересное (про себя и для себя), и профессор ему ставил двойки, а потом он стал писать для других (и не только для профессора) и про интересное, и стало ему хорошо.
Ф.С.: А что интересное?
Ф.С.: Конечно, само письмо! L’écriture! Я отдался исследованию звуковой материи.
Ф.С.: То есть, нарратив продолжался?
Ф.С.: Да.
Ф.С.: И как?
Ф.С.: Я стал рассказывать историю о себе самим собой, превращая жизнь в перформанс, а музыка стала его частью. Писать стало сложно, и я обратился к совершенно антимузыкальным, кажется, вещам. Просматривая огромный каталог выставки Гогена в Пушкинском музее, я пытался понять, о чём пишет Гоген. И тут-то я понял, что главное в живописи, как и в музыке, — вчувствование, вживание в… хотел сказать «образ», но осёкся. В жест — так точнее будет определить. Жест живописца, жест композитора вдруг оказался для меня определяющим моментом в восприятии. И мне показалось, что каждый жест похож на молчаливый, неспетый голос, о котором пишет в своей книге Кэролайн Эббейт. Вот что она говорит в предисловии к своей книге «Неспетые голоса»:
«<…> фактически, я наделяю отдельные музыкальные моменты лицами, а значит, языками и особым звучащим присутствием. Я создаю голоса из музыкального дискурса. Меня волновали вопросы: как эти сконструированные «они» как будто говорят? Почему мы их слышим? Какова их сила? Какие именно музыкальные жесты можно истолковать как выдающие их присутствие? Все шесть последующих глав пытаются восстановить эти голоса, которые — отсюда один из смыслов моего названия — для меня остались незамеченными, неспетыми. Чувствительность к этому сконструированному присутствию означает обладание тем самым “вторым слухом” (слуховой формой “второго зрения”), которое, надеюсь, воскрешает чувство того, что есть сверхъестественного в музыке».
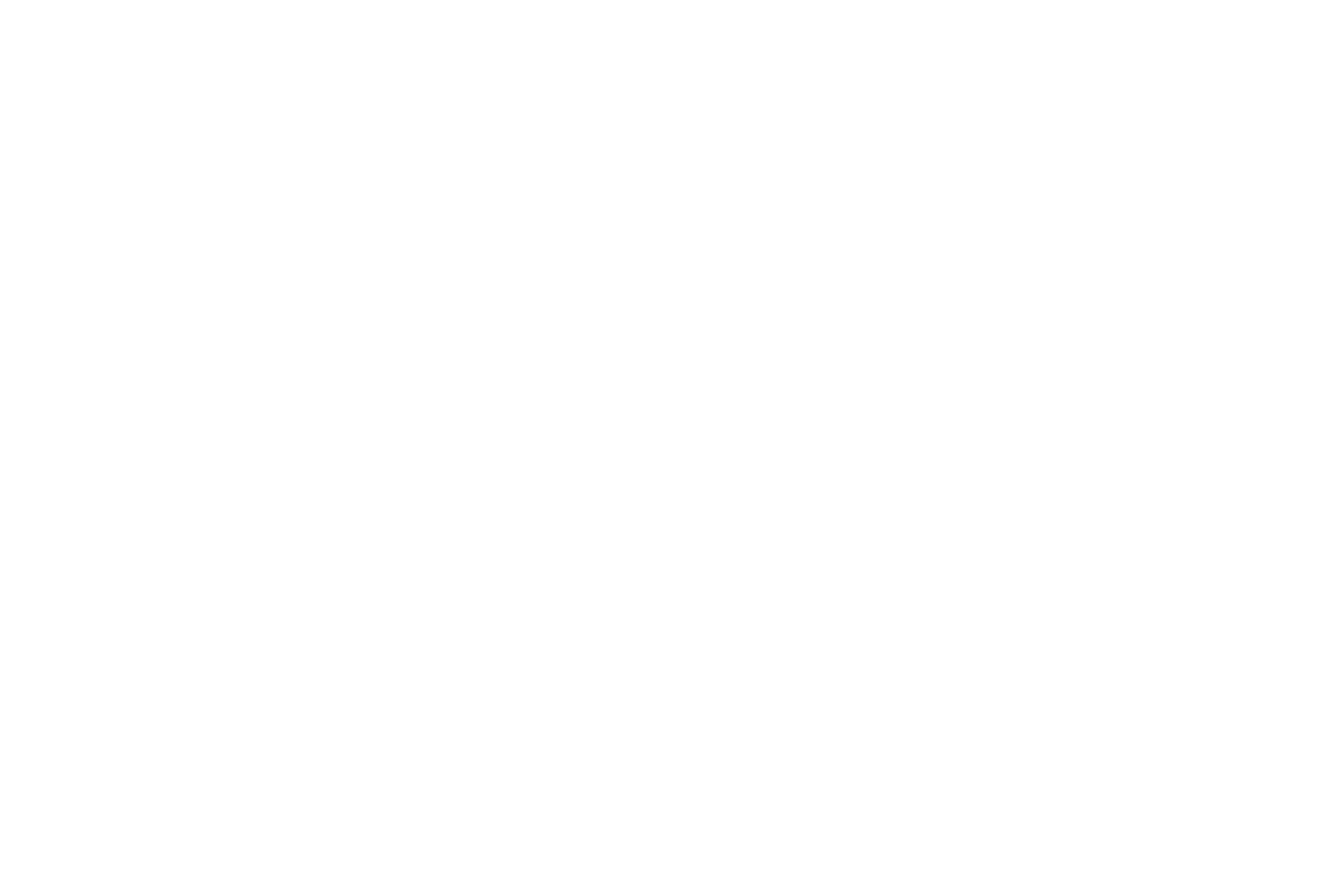
Фото — Анастасия Ким
Ф.С.: Но Эббейт пришла к своим выводам на основании работы с оперой, где есть словесный текст, а значит, и прямой нарратив, и сравнивает результаты своей работы с тем, что творится в абсолютной музыке.
Ф.С.: Не совсем так. Здесь я вспоминаю всякий раз не только выдающегося композитора, но и преподавателя Франко Донатони, который говорил о том, что жест (la figura) в музыке столь же важен, сколь и в речи истинного итальянца, который не может говорить, не жестикулируя, поскольку в Италии носители разных диалектов могут не до конца понимать друг друга. И в своей собственной музыке, и в жизни я принимаю важность этой мысли. Если я надеваю галстук — это жест (социальный — я преподаватель и иду к студентам). Если я пишу, условно говоря, пиано-ФОРТЕ-пиано — это тоже жест, составляющий какую-то ячейку смысла произведения. Но и то, и другое надо почувствовать, и почувствовать в контексте, чтобы взаимодействие смысловых ячеек порождало новые смыслы.
Ф.С.: То есть, музыку получается «увидеть» как некий язык жестов?
Ф.С.: И да, и нет. Ровно в той степени, в какой мы считаем музыку языком или не считаем. Давайте считать так: язык даёт форму сознанию, порождает новые смыслы в новых комбинациях единиц (слов, звуков). Это своего рода коллективный миф. А музыка — это миф в поисках смысла, миф в поисках языка, то есть себя как себя самого. Поэтому музыка становится объектом вчувствования в смысл без гарантии его обретения как определённого понятия в языке.
Ф.С.: Но это вчуствование ведь и является действительным нарративом как в музыке, так и в изобразительном искусстве?
Ф.С.: Да, совершенно верно! Это полностью соответствует мысли Барта, который писал: «Повествование разворачивается не ради прямого воздействия на действительность, а ради самого рассказа». Особенно это касается абстрактного искусства, где нет объектов, совпадающих с повседневным зрительным опытом. У нарратива музыкального и изобразительного, самое главное, есть длительность, которая не совпадает с длительностью произведения. Отнюдь! Ведь у картины нет длительности, а вчувствование происходит во времени. И даже более того. Вот что пишет Эмиль Чоран в своём сборнике «Горькие силлогизмы»: «Без империализма понятий музыка заняла бы место философии: это был бы рай очевидности, своего рода эпидемия экстазов».
Ф.С.: Не совсем так. Здесь я вспоминаю всякий раз не только выдающегося композитора, но и преподавателя Франко Донатони, который говорил о том, что жест (la figura) в музыке столь же важен, сколь и в речи истинного итальянца, который не может говорить, не жестикулируя, поскольку в Италии носители разных диалектов могут не до конца понимать друг друга. И в своей собственной музыке, и в жизни я принимаю важность этой мысли. Если я надеваю галстук — это жест (социальный — я преподаватель и иду к студентам). Если я пишу, условно говоря, пиано-ФОРТЕ-пиано — это тоже жест, составляющий какую-то ячейку смысла произведения. Но и то, и другое надо почувствовать, и почувствовать в контексте, чтобы взаимодействие смысловых ячеек порождало новые смыслы.
Ф.С.: То есть, музыку получается «увидеть» как некий язык жестов?
Ф.С.: И да, и нет. Ровно в той степени, в какой мы считаем музыку языком или не считаем. Давайте считать так: язык даёт форму сознанию, порождает новые смыслы в новых комбинациях единиц (слов, звуков). Это своего рода коллективный миф. А музыка — это миф в поисках смысла, миф в поисках языка, то есть себя как себя самого. Поэтому музыка становится объектом вчувствования в смысл без гарантии его обретения как определённого понятия в языке.
Ф.С.: Но это вчуствование ведь и является действительным нарративом как в музыке, так и в изобразительном искусстве?
Ф.С.: Да, совершенно верно! Это полностью соответствует мысли Барта, который писал: «Повествование разворачивается не ради прямого воздействия на действительность, а ради самого рассказа». Особенно это касается абстрактного искусства, где нет объектов, совпадающих с повседневным зрительным опытом. У нарратива музыкального и изобразительного, самое главное, есть длительность, которая не совпадает с длительностью произведения. Отнюдь! Ведь у картины нет длительности, а вчувствование происходит во времени. И даже более того. Вот что пишет Эмиль Чоран в своём сборнике «Горькие силлогизмы»: «Без империализма понятий музыка заняла бы место философии: это был бы рай очевидности, своего рода эпидемия экстазов».
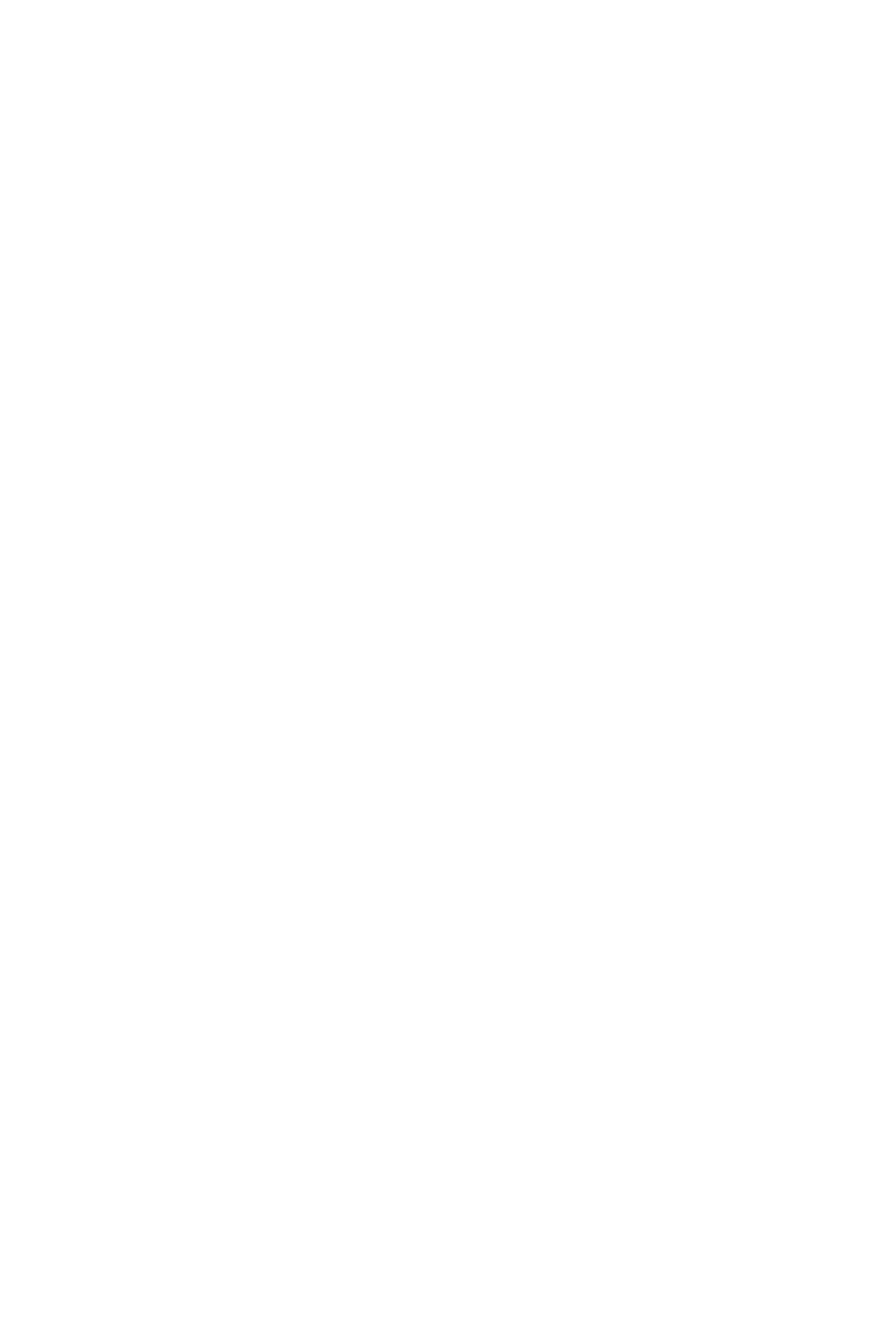
Фото — Анастасия Ким
Ф.С.: Именно что без империализма понятий. И нарратив в музыке оказывается очень близок к нарративу в философии.
Ф.С.: Остаётся ответить на вопрос, что же такое нарратив в философии. Как и во всякой науке, это способ работы с данными с целью поиска неочевидных связей, которые пропускает или не может в принципе уловить простой эмпирический метод. Такова теория струн в физике, например. Таков вообще весь континуум постструктуралистской философии, основанной на сближении «далековатых» для прежней методологии объектов. Современное музыковедение тоже стремится к этому, пытаясь говорить о каких-то сущностных вещах, выстраивая новые нарративы.
Ф.С.: Например, пытаясь определить, что такое нарратив?
Ф.С.: Да. Именно так.
Ф.С.: Остаётся ответить на вопрос, что же такое нарратив в философии. Как и во всякой науке, это способ работы с данными с целью поиска неочевидных связей, которые пропускает или не может в принципе уловить простой эмпирический метод. Такова теория струн в физике, например. Таков вообще весь континуум постструктуралистской философии, основанной на сближении «далековатых» для прежней методологии объектов. Современное музыковедение тоже стремится к этому, пытаясь говорить о каких-то сущностных вещах, выстраивая новые нарративы.
Ф.С.: Например, пытаясь определить, что такое нарратив?
Ф.С.: Да. Именно так.